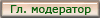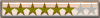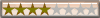|  |
-
ВНИМАНИЕ
Весь материал, представленный на данном форуме, предназначен исключительно для ознакомления. Все права на произведения принадлежат правообладателям (т.е согласно правилам форума он является собственником всего материала, опубликованного на данном ресурсе). Таким образом, форум занимается коллекционированием. Скопировав произведение с нашего форума (в данном случае администрация форума снимает с себя всякую ответственность), вы обязуетесь после прочтения удалить его со своего компьютера. Опубликовав произведение на других ресурсах в сети, вы берете на себя ответственность перед правообладателями.
Публикация материалов с форума возможна только с разрешения администрации. - Оглавление
-
Подробнее о персонаже
Фергюс О'Брин - один из трех постоянных сыщиков в произведениях Энтони Баучера, прошедший волей автора через самые необычные метаморфозы. Это частный детектив из Лос-Анджелеса, ирландец, наделенный всеми типичными чертами своей нации от рыжих волос до склонности кбожбе*, а также неиссякаемым (“фамильным”, по его собственному утверждению) любопытством, которое и привело его в сыщики. О происхождении О'Брина известно мало, кроме того, что он вырос в неблагополучной семье и имеет старшую сестру Морин, которая возглавляет рекламный отдел в кинокомпании “Метрополис”, зачастую подкидывая брату работу. В первом же описанном расследовании О'Брина,Божба – форма греха, состоящая: 1) в подтверждении собственных слов, обещаний или клятвы именем Божиим; 2) в произнесении имени Божия всуе, т.е. впустую (например: “Клянусь Богом”, “Ей богу”, “Вот тебе крест”, “Боже мой” и т.п.). В ряде случаев к божбе, в широкой интерпретации, может быть отнесен и кощунственный ропот на Бога за Его немилосердное якобы отношение к человеку, за страдания, которые ему кажутся чрезмерными и незаслуженными.“Деле о смятом валете”*, он столкнулся с лейтенантом полиции Э. Джексоном, который в дальнейшем стал его постоянным напарником и приятелем.The Case of the Seven Calvary (1939)
Первое дело О'Брина могло бы стать для него и последним, поскольку он задумывался автором как второстепенный персонаж, сыщик-неудачник, скрывающий своей эксцентричностью намеченного Баучером серийного сыщика. Однако образ оказался настолько ярким, что автор поручил именно О'Брину"Дело о крепком ключе"*иThe Case of the Solid Key, (1941)"Дело о семи чихах”*. Если во всех трех романах О'Брин сталкивается с традиционными детективными загадками, то в рассказах перед ним обычно встают проблемы, зачастую “невозможные”, которые, казалось бы, невозможно разрешить рационально — но Фергюс блистательно их разрешает, логически выводя объяснения, лежащие в области научной фантастики или даже фэнтези. Таким образом, излюбленный персонаж Баучера оказался единственным, кого он “взял с собой”, уйдя в 1940-е годы в фантастическую литературу.The Case of the Seven Sneezes, (1942) -
Настоящий вервольф
ПРОФЕССОР бросил еще один взгляд на записку, которую держал в руке, — там было всего три слова:
Не будь идиотом!
И подпись: “Глория”.
Вольф Вулф скомкал желтый листок и швырнул бумажный шарик в окно, под весеннее солнце университетского двора. А потом выругался на свободном средневерхненемецком.
Эмили посмотрела на него поверх печатной машинки — она как раз работала над перепечаткой бюджета библиотеки кафедры:
— Боюсь, я не совсем поняла вас, профессор Вулф. Я не слишком сильна в верхненемецком.
— Это была импровизация, — ответил Вулф, яростно перелистывая “Журнал английской и немецкой филологии”.
Эмили встала из-за машинки:
— Что-то случилось? Комитет отверг вашу монографию по Хагеру?
— Этот монументальный вклад в копилку человеческих познаний? О нет, тут другое. Пустяки. Не стоит и говорить.
— Но вы так расстроены…
— Всеобщая мамочка, — фыркнул Вулф. — Как у вас получается держать всю кафедру в своих руках? Вы же в курсе всех дел! Оставьте меня.
Маленькое темное лицо Эмили зажглось пламенем праведного гнева, на нем и следа не осталось от недавнего сочувствия и симпатии.
— Не говорите со мной так, мистер Вулф. Я просто пытаюсь вам помочь. И вовсе не всю кафедру, а…
Профессор Вулф взял чернильницу, посмотрел на телеграмму и журнал, а потом со стуком опустил пузырек с чернилами на стол.
— Не надо. Есть куда более эффективные способы справиться с печалями. Скорбь неплохо тонет — ее гораздо проще утопить, чем разделить на части. Попросите Гербрета подменить меня в два часа, хорошо?
— Куда вы собираетесь?
— Я собираюсь спуститься в ад. С остановками на каждом уровне. Счастливо оставаться.
— Подождите! Может, я все-таки смогу вам чем-то помочь? Помните, как декан набросился на вас, когда вы угощали студентов спиртным? Возможно, я смогу…
Вулф остановился в дверном проходе и выразительно выставил вперед указательный палец, который был такой же длины, как средний.
— Мадам, с точки зрения академической работы вы незаменимы. Но сейчас эта кафедра может катиться ко всем чертям — хотя и там тоже, без сомнения, продолжит нуждаться в ваших бесценных услугах.
— Неужели вы не понимаете, — голос Эмили дрожал. — Нет, конечно, нет. Ничего вы не понимаете. Вы просто грубый, бесчувственный мужлан… нет, даже не мужлан. Вы просто профессор Вулф. Вы Вуф-Вуф.
Вулф смотрел на нее изумленно:
— Я — кто?
— Тяф-Тяф! Вольф Вулф — Тяф-Тяф. Все ваши студенты, все называют вас так! Но вы не замечаете такие вещи. Потому что вы — Тяф-Тяф!
— Это, — сказал Вольф Вулф, — последняя капля. Мое сердце разбито, мой мир рассыпался на части. Мало того что мне сейчас придется шагать целую милю, чтобы дойти от кампуса до бара, оказывается, этого недостаточно! Оказывается, я теперь еще и Тяф-Тяф. Что ж… Прощайте!
Он резко развернулся и с размаху впечатался прямо в дверной косяк.
Послышался довольно громкий звук — это в одинаковой степени походило и на приветствие “Вулф!”, и на сочувственное “У-уф!”
Вулф попятился обратно в комнату и обнаружил перед собой профессора Фиринга — брюшко, пенсне, трость и так далее. Пожилой профессор доковылял до его стола, плюхнулся на стул и стал отдуваться.
— Мальчик мой, — покачал он головой, — какая импульсивность!
— Прошу прощения, Оскар.
— Ах, молодость… — Профессор Фиринг пошарил в карманах в поисках носового платка и, не обнаружив его, начал полировать пенсне своим задрипанным, с бахромой по краям, галстуком. — Куда вы так спешите? И почему Эмили плачет?
— Эмили плачет?!
— Ну вот… сами видите… — безнадежно произнесла Эмили и буркнула в свой влажный носовой платок: — Тяф-Тяф.
— А почему номера “Журнала английской и германской филологии” летают над моей головой, когда я гуляю по университетскому двору? Или вам в руки попал телепортатор?
— Прошу прощения, — отрывисто повторил Вулф. — Приступ раздражения. Я… просто я не смог выдержать эту смехотворную аргументацию Глока. Прощайте.
— Секунду. — Профессор Фиринг выудил из одного из бесчисленных карманов сильно мятый листок желтой бумаги. — Я полагаю, это ваше?
Вулф выхватил его и быстро превратил в конфетти.
Фиринг хихикнул:
— Ах… А ведь я помню, как Глория была здесь студенткой! Я думал о ней вот буквально накануне — когда увидел ее в “Лунной мелодии”. Как она расстроила всю кафедру своим уходом! О небеса, будь я помоложе…
— Я ухожу. Вы позаботитесь о Гербрете, Эмили?
Эмили хлюпнула носом и кивнула.
— Идите, Вулф, — голос Фиринга стал серьезнее. — Я вовсе не хочу лезть к вам в душу. Но все же не стоит принимать все это так близко к сердцу. И потом — есть более эффективные способы справиться с печалью, чем напиваться в одиночестве.
— Кто говорил о…
— А говорить совершенно необязательно. Так что, мальчик мой, если вы собирались… Вы ведь не религиозны, не так ли?
— О господи, нет, — отозвался Вулф.
— А лучше бы были… Если позволите сделать предложение, Вулф, почему бы вам не прийти сегодня вечером в Храм? У нас будет особенная служба. Совсем особенная. Она может отвлечь вас от мыслей о Гло… от ваших проблем.
— Спасибо, нет. Я всегда хотел посетить ваш Храм — я слышал о нем удивительнейшие вещи! — но… не сегодня. Как-нибудь в другой раз.
— Сегодня будет особенно интересно.
— Почему? Что такого особенного в сегодняшнем тридцатом апреля?
Фиринг покачал седой головой:
— Просто поразительно, насколько невежествен может быть ученый вне выбранной им области знаний… Но вы знаете дорогу, Вулф; я все-таки надеюсь увидеть вас там вечером.
— Спасибо. Но мои проблемы не требуют вмешательства сверхъестественных сил. Думаю, пара коктейлей прекрасно поможет, скажем — “зомби” отлично подойдет, и я совершенно не собираюсь напиваться в стельку. До свиданья, Оскар.
Он уже почти вышел, но обернулся и добавил:
— Пока, Эмили.
— Какая стремительность! — промурлыкал Фиринг. — Какая импульсивность. Как приятно наслаждаться молодостью, не правда ли, Эмили?
Эмили ничего не ответила.
Она начала печатать предварительный бюджет с такой скоростью и так яростно барабаня по клавишам, будто за ней по пятам гнались адские псы и их было много.
Солнце садилось, а Вулф все никак не мог завершить трагическое описание своих бедствий. Бармен уже отполировал все стаканы на стойке, а история, которую он вынужден был слушать, все не кончалась и не кончалась. Бармен разрывался между скукой, новой даже при его опыте, и профессиональным восхищением перед посетителем, способным употребить столько “зомби”.
— Я рассказывал, как она провалила промежуточный экзамен? — грозно вопросил Вулф.
— Трижды, — ответил бармен.
— Ну хорошо, тогда я тебе расскажу. Пмаешь, обычно я так не поступаю. Не по-сту-па-ю. Профессиональная этика — это все, что у меня есть. Но тут было иначе. Это было не то, что кто-то не знал просто потому, что не знает; это была девушка, которая не знала потому, что была такого типа, которая знает такие вещи, которые девушка должна знать, если она такого типа, что должна знать такие вещи. Пмаешь?
Бармен бросил оценивающий взгляд на полноватого невысокого мужчину, сидевшего в одиночестве за стойкой пустого бара и медленно потягивавшего свой джин-тоник.
— Она мне это показала. Она показала мне мно-о-ожество разных вещей, и я до сих пор вижу вещи, которые она мне показала. Это не обычная история, когда профессор влюбляется в студентку и бла-бла-бла, пмаешь? Это было иначе. Это было пркрассссно. Это было как целая новая жизнь… типа.
Бармен бочком двинулся к тому концу барной стойки, где сидел толстяк со странной бородкой.
— Братец, — тихонько позвал бармен.
Толстяк глянул на него поверх джин-тоника:
— Да, коллега?
— Еще пять минут бесконечной заезженной пластинки этого профессора — и я за себя не ручаюсь. Как насчет заменить меня, а?
Человек повернулся к Вулфу и остановил взгляд на его руке, сжимавшей высокий стакан с “зомби”.
— С удовольствием, коллега, — кивнул он.
Бармен с облегчением выдохнул.
— Она была сама Мооооолодость, — сосредоточенно тянул Вулф в ту сторону, где только что стоял бармен. — Но это было не все. Это было… д-д-д-другое. Она была сама Жжжжжизнь, и Волнение, и Радость, и Экстаз и все такое. Пмаешь… — Он запнулся и уставился на пустое пространство. — Пт-рясающе, — отметил он. — Прямо на моих глазах. Пт-рясающе!
— Продолжайте, коллега, — подбодрил его толстяк со своего места.
Вулф обернулся:
— А… Вот ты где. Я рассказывал, как пошел к ней домой, чтобы проверить курсовую?
— Нет. Но у меня такое ощущение, что еще расскажете.
— Как ты дгадался? Каккой ты дгаааадльвый. Итак, тем вечером…
Коротышка пил медленно, но его стакан опустел к тому времени, как Вулф закончил описание вечера попыток неумелого флирта. Появлялись новые посетители, бар уже заполнился на треть.
— …и с тех пор… — Вулф вдруг резко остановился. — Это не ты, — негодующе заявил он.
— Думаю, это я, коллега.
— Но ты бармен… Ты не бармен!
— Нет. Я волшебник.
— О. Это все объясняет. Итак, как я говорил… Эй! У тебя бородатая лысина!
— Прошу прощения?
— Твоя лысина бородатая. Ой, мне нравится твоя голова! Такой прям ободок вокруг…
— Мне тоже нравится.
— И у тебя стакан пустой.
— Это тоже хорошо.
— Нет, не хорошо. Не каждый вечер ты пьешь на пару с человеком, который с-с-сделал предложение Глории Гартон и получил отказ. Это стоит отметить. — Вулф глухо ударил по стойке и поднял два пальца правой руки вверх.
Коротышка обратил внимание на их одинаковую длину.
— Нет, — вежливо сказал он. — Думаю, не стоит. Я знаю свою меру. Если я выпью еще — могут начать случаться странные вещи.
— Пусь… пусь случаются!
— Нет. Пожалуйста, коллега. Не стоит…
Бармен принес напитки.
— Давай, братец, не подведи, — прошептал он. — Не дай ему разбушеваться. Я тебе тоже когда-нибудь окажу услугу.
Бородатый неохотно пригубил свой свежий джин-тоник.
Профессор глотнул “зомби”, уже неизвестно, какой по счету.
— Меня зовут Тяф-Тяф, — объявил он. — Нет, так-то, по-настоящему, меня должны звать Вольф Вулф. Но все зовут Тяф-Тяф. Атякак?
Коротышка ответил не сразу — ему понадобилось время, чтобы расшифровать это арабское на слух слово, а потом кивнул:
— А меня — Великий Озимандиас.
— Смешное имя!
— Ну я же уже сказал тебе — я волшебник. Только я уже давно не работаю. Знаешь, импресарио и директора театров и цирков очень своеобразны, коллега. Им не нужен настоящий волшебник. Они даже не дают мне показать свой лучший материал. О, помню одним вечером в Дарджилинге…
— Приятно познакомиться, мистер… мистер…
— Можешь звать меня Оззи. Так делает большинство.
— Приятно познакомиться, Оззи. Теперь об этой девушке. Этой Г-г-г-глории. Ты пмаешь, правдж?
— Конечно, коллега.
— Она думает, что профессор немецкой филологии ничего не стоит. Она хочет чего-то гламууууур-мууурного. Она говорит, что если бы я был актером, ну там или агентом ФБР… пмаешь?
Великий Озимандиас кивнул.
— Ну и отлчно! Ты пмаешь. Хорошо. Но пчему ты не хочшь об этом грить? Ты пмаешь. Хорошо. К черту это.
Круглое, обрамленное бородкой лицо Озимандиаса просветлело.
— Вот именно, — сказал он, с энтузиазмом кивая. — Давай выпьем за это!
Они чокнулись и выпили.
Вулф непринужденно произнес тост на древненижненемецком с непростительной ошибкой в форме родительного падежа.
Двое крепко выпивших приятелей рядом с ними начали было петь на два голоса “Моя дикая ирландская роза”, но почти сразу же умолкли.
— Вот что нам сейчас нужнее всего — так это тенор, — сказал тот, что в котелке.
— А вот что мне сейчас нужнее всего, — пробормотал Вулф, — так это сигарета.
— Разумеется, — сказал Великий Озимандиас.
Бармен сейчас наливал пиво прямо напротив них, и Озимандиас потянулся через стойку, достал сигарету из-за уха бармена и протянул своему компаньону.
— Откуда она взялась?
— Я не знаю, откуда они там берутся. Я знаю только, как их доставать. Я же говорил тебе — я волшебник.
— А, понял. Фоооокусссник.
— Нет. Не фокусник; я сказал — волшебник. О, проклятье! Опять я это делаю! Один лишний джин-тоник — и я начинаю выделываться!
— Я тебе не верю, — категорично сказал Вулф. — Волшебников не существует. Это такая же глупость, как Оскар Фиринг со своим Храмом… да и что такого особенного в тридцатом апреля?
Бородатый поднял брови:
— Пожалуйста, коллега. Давай просто забудем об этом.
— Нет. Я тебе не верю. Это какой-то фокус с этой сигаретой. Ты не мог раздобыть ее с помощью магии! — его голос набирал обороты. — Ты мошенник!
— Пожалуйста, братец, — прошептал бармен. — Утихомирь его.
— Ладно, — устало сказал Озимандиас. — Я покажу тебе то, что нельзя объяснить ловкостью рук.
Нетрезвые певцы по соседству вновь затянули песню.
— Итак. Им нужен тенор? Так слушай!
И сладчайший, самый прекрасный и совершенный из когда-либо звучавших на свете, ирландский тенор присоединился к дуэту. Певцов не волновал его источник — они были достаточно пьяны, чтобы просто с радостью принять новый голос, и старались изо всех сил, в результате чего посетители бара познали высочайшую гармонию и соприкоснулись с таким высоким искусством, какого никогда не слышали в этих стенах.
Все это произвело впечатление на Вулфа, но он упрямо покачал головой:
— Это тоже никакая не магия. Это… чревовещание!
— Ну вообще-то, если уж быть точным, это был уличный певец, который погиб во время теракта в Ирландии. Он был славным парнем, и я никогда не слышал голоса лучше, не считая того вечера в Дарджилинге, когда…
— Мошенник! — громко и воинственно сказал Вольф Вулф.
Озимандиас вновь взглянул на этот длинный указательный палец.
Он посмотрел на темные брови профессора, сходившиеся в прямую линию на переносице, поднял вялую руку своего собеседника со стойки, перевернул и тщательно рассмотрел ладонь: так и есть, волосяной покров был не сильно, но выражен.
Волшебник сдавленно рассмеялся.
— И ты — ты! — насмехаешься над магией!
— А шо такого смешного в том, что именно я над ней насмехаюсь?
Озимандиас понизил голос:
— Потому, мой мохнатый друг, что ты… вервольф.
Ирландский мученик завел “Траллийскую розу”, и двое смертных с готовностью присоединились к нему.
— Я… кто?!
— Вервольф. Оборотень.
— Но их не существует. Это любому дураку известно!
— Дуракам, — заметил Озимандиас, — известно много такого, о чем не догадываются мудрецы. Вервольфы существуют. Они всегда были и, скорее всего, всегда будут, — он говорил так спокойно и убедительно, словно о самых обыденных и привычных вещах, которые не требуют объяснений. — И есть три безошибочных внешних признака вервольфа: сходящиеся брови, длинный указательный палец и волосатые ладони. У тебя в наличии все три. И даже твое имя на это указывает. Фамилии не происходят из ниоткуда. У каждого Смита был в предках кузнец. Каждый Фишер происходит из семьи рыбаков. А твоя фамилия Вулф. То есть Волк.
Это звучало так уверенно и убедительно, что Вулф заколебался.
— Но вервольф — это человек, который превращается в волка. А я такого никогда не делал! Чесслово — никогда!
— Млекопитающее, — сказал Озимандиас, — это живородящее животное, которое кормит своих детенышей молоком. Девственница — млекопитающее, хотя она никого пока не рожала и не кормила. То, что ты никогда не превращался, не мешает тебе быть вервольфом по сути.
— Но вервольф… — Внезапно глаза Вулфа вспыхнули радостью. — Вервольф! Это же даже лучше агента ФБР! Теперь я покажу Глории! Я ей д-д-д-окажу!
— Что это ты имеешь в виду, приятель?
Вулф сполз со стула.
Он даже, кажется, протрезвел, охваченный гениальной идеей, и схватил коротышку за рукав:
— Пойдем! Найдем хорошее, спокойное место. И ты докажешь, что ты маг.
— Каким образом?
— Ты научишь меня обращаться!
Озимандиас прикончил свой джин-тоник и в нем утопил остатки сомнения и раскаяния.
— Что ж, коллега, — провозгласил он, — за дело!
Стоя у украшенного изящной резьбой алтаря Храма Темной Истины, профессор Оскар Фиринг не лишенной торжественности скороговоркой закончил молитву:
— И в эту Ночь всех ночей, именем черного света, горящего во тьме, мы возносим свою благодарность! — Он закрыл старинную книгу в кожаном переплете и повернул одухотворенное лицо к прихожанам: — Кто желает воздать свою благодарность Князю Тьмы?
Упитанная вдова поднялась на ноги.
— Я воздаю благодарность! — восторженно завизжала она. — Моя Минг Чой была смертельно больна. Я принесла немного ее крови в жертву Князю Тьмы — и он сжалился и вернул ее мне!
За алтарем электрик проверил выключатели и с отвращением сплюнул:
— Насекомые! Все до последнего! Тьфу!
Его собеседник, сражающийся в этот момент с гротескным костюмом какого-то чудища, замер и пожал плечами:
— Они хорошо платят. Что с того, что они насекомые?
Высокий худой пожилой прихожанин неуверенно поднялся на ноги.
— Я воздаю благодарность! — закричал он. — Я воздаю благодарность Князю Тьмы за то, что закончил свой величайший труд. Защитная сетка против магнитных мин испытана, и испытания прошли успешно — во славу нашей страны, науки и Бога!
— Псих, — пробормотал электрик.
Человек в костюме с любопытством выглянул из-за алтаря:
— Чертов псих! Это профессор Чизвик с кафедры физики. Удивительно, что такой человек повелся на эту ерунду! Ты только послушай его: он уверяет, что правительство планирует установку этой его идиотской сетки. Знаешь, готов поспорить — эти, которые вечно все вынюхивают, папарацци, здесь нашли бы чем поживиться.
Когда прихожане закончили воздавать свою благодарность, в храме наступила абсолютная тишина.
Профессор Фиринг тихо и внушительно заговорил:
— Мои дорогие братья во тьме, сегодня тридцатое апреля — ночь, священная для всей церкви из-за мученицы, миссионерки святой Вальпургии. А для нас эта ночь особенная по другим, более глубоким причинам. Именно сегодня ночью — и только сегодня ночью! — мы можем напрямую передать свою благодарность самому Князю Тьмы. Не похотливой оргией и непристойностями, как в Средние века, когда люди имели неправильные и недостойные представления о его желаниях, но восхвалением, молитвой и глубокой, темной радостью, уходящей корнями своими во Тьму.
— Ну, держитесь, крошки, — сказал мужчина в костюме. — Вот и мой выход.
— Eka! — проревел Фиринг. — Dva tri chatur! Pancha! Sapta! Ashta nava dasha ekadasha!
Он сделал паузу.
Всегда существовала опасность, что на службе окажется какой-то ученый из университетского городка, достаточно разбирающийся в лингвистике, чтобы понять, что эта молитва, даром что произнесенная на совершенном санскрите, состоит просто из цифр — от одного до одиннадцати.
Но никто не пикнул, и он перешел на латынь, более подходящую к случаю:
—Per vota nostra ipse nunc surgat nobis dicatus Baal Zebub!*Нашими молитвами сам посвященный Вельзевул теперь восстает за нас! (лат.)
— Baal Zebub! — хором повторили прихожане.
— Ку, — сказал электрик и нажал на выключатель.
Свет помигал и выключился.
Потом последовала вспышка — и внезапно из темноты послышался резкий лай, скулеж, полный боли, затем чересчур затянувшийся торжествующий вой.
Затем загорелся тусклый синий свет, и электрик с изумлением увидел, что его напарник, наряженный в костюм, трясет раненой рукой.
— Что за… — прошептал электрик.
— Будь я проклят, если знаю! Я вышел туда по сигналу, я был готов явиться во всем своем блеске и величии — и что происходит? Чертова огроменная псина бросается и кусает меня за руку! Почему они не сказали мне, что изменили сценарий?
В сиянии синего света прихожане с благоговением созерцали полноватого невысокого мужчину со странной бородкой и рядом с ним — роскошного серого волка.
— Слава тебе, о Князь Тьмы! — прогремел хор, в котором потонуло бормотание одной старой девы:
— О… дорогая, клянусь, в прошлом году он был куда симпатичнее!
— Коллеги! — сказал Великий Озимандиас, и наступила полная тишина — все замерли в ожидании тех, несомненно, важнейших и значительнейших слов, которые произнесет сейчас Князь Тьмы. Озимандиас сделал шаг вперед, аккуратно высунул язык, материализовал самую спелую и сочную ягоду малины за всю свою карьеру и исчез, вместе с волком и всем остальным.
Вольф Вулф открыл глаза — и поспешно закрыл снова. Он никак не думал, что в тихом и спокойном Беркли Инн есть комнаты со встроенными центрифугами. Это было нечестно! Лежа с закрытыми глазами, он ждал, пока комната перестанет вращаться с дикой скоростью, и пытался восстановить в памяти вчерашний вечер.
Он хорошо помнил бар. И “зомби”. И бармена — очень приятный и отзывчивый малый был, до тех пор пока не превратился в невысокого мужчину с бородатой лысиной. С этого начались странности. Что-то там было с сигаретой, ирландским тенором и вервольфом. Какая-то фантастика. Ведь каждый дурак знает, что…
Вулф резко сел. Он же вервольф! Отбросив простыню, он уставился на свои ноги. Потом облегченно вздохнул: это были длинные ноги, они были довольно волосаты, они были коричневыми от загара — но они были, бесспорно, человеческими.
Вулф встал и начал собирать одежду, небрежно раскиданную по полу, стараясь не обращать внимания на сомнения в глубине души. В его голове разрабатывала новую шахту бригада гномов с отбойными молотками, но он надеялся, что они уйдут, если не замечать их. Одно было ясно: теперь с ним все будет в порядке. Глория или не Глория, разбитое сердце или не разбитое — а топить свою печаль в вине было глупо. Тем более когда ты знаешь, каково быть вервольфом…
Но почему он представлял это в таких деталях? Столько обрывочных воспоминаний всплыло в мозгу, пока он одевался: как они шли в Клубничный Каньон с бородатой лысиной в поисках глухого, пустынного места для волшебства, как он пытался запомнить волшебное слово…
Черт, он даже помнил это слово! Слово, при помощи которого превращаешься в волка, а потом назад.
Неужели он выдумал это слово в пьяном угаре? И разве в состоянии он придумать все это: поразительную, волшебную свободу превращения, укол острой, мучительной боли во время метаморфозы, а потом — безграничное счастье от ощущения своей гибкости, скорости и свободы?
Он изучал свое отражение в зеркале. Если не считать легкой помятости его консервативного однобортного серого костюма, он выглядел в точности как всегда: тихий университетский профессор… чуть лучше сложен, чуть более импульсивен, чуть более романтичен, чем остальные, но все же — профессор Вулф. Всего-навсего.
Остальное казалось бессмыслицей. Но импульсивная сторона натуры Вулфа шептала ему, что существует только один способ проверить этот факт. Произнести Слово.
— Хорошо, — сказал Вольф Вулф своему отражению. — Я тебе докажу.
И он произнес Слово.
Боль была острее и мучительнее, чем ему запомнилось. Алкоголь снижает чувствительность к боли. А сейчас он, похоже, испытал нечто подобное тому, что испытывают женщины при родах. Но боль прошла, и он в радостном изумлении пошевелил конечностями. Нет… он не был гибким, быстрым, свободным зверем. Он был беспомощным, попавшим в ловушку волком, намертво упакованным в консервативный однобортный серый костюм.
Вулф попытался встать и пойти, но длинные рукава и штанины заставили его распластаться на брюхе. Он начал лягаться, пытаясь вырваться на свободу, но скоро остановился: вервольф или не вервольф, а все-таки он оставался профессором Вулфом, и этот костюм стоил тридцать пять долларов. Должен был найтись более дешевый способ обрести свободу, чем разорвать костюм в мелкие кусочки.
Вулф пробормотал несколько добротных, хотя и грубоватых ругательств на нижненемецком. О подобном затруднении ничего не было сказано ни в одной из прочитанных им легенд о вервольфах. Там люди просто ррраз! — и становились волками, а потом бац! — и становились снова людьми. Будучи людьми, они носили одежду, будучи волками — шерсть. Даже Супермен превращается вновь в Кларка Кента на вершине Эмпайр-стейт-билдинг и находит там свою повседневную одежду. Все это вводило в заблуждение. Вулф вспомнил — правда, с некоторым опозданием, — как Великий Озимандиас заставил его раздеться, перед тем как научить слову…
Слово! Ну конечно! Нужно только произнести слово — АБЗАРКА! — и он снова станет мужчиной в ладно сидящем костюме. А потом он может раздеться и развлекаться сколько угодно. Всегда стоит сначала подумать, прежде чем впадать в истерику.
— АБЗАРКА! — сказал Вулф.
Или подумал, что сказал. Он прошел через все необходимые мыслительные процессы, чтобы сказать “АБЗАРКА!”, но из его пасти раздалось только что-то вроде лязга зубов и скулежа. И он по-прежнему оставался абсолютно беспомощным волком в костюме консервативного покроя.
Эта проблема была куда серьезнее, чем проблема с одеждой. Если он может трансформироваться, только сказав “АБЗАРКА!”, а в обличье волка произнести ничего не может, — что ж, вот тогда он попал. Определенно. Можно, конечно, найти Оззи и спросить, но как мог спеленутый в серый костюм волк безопасно выбраться из отеля и отправиться по неизвестному адресу в поисках неизвестно кого?
Итак, он был в ловушке. Все пропало. Он, Вулф…
— АБЗАРКА!
Профессор Вольф Вулф с трудом встал на ноги, отряхивая удручающе мятый костюм, и увидел обрамленное странной бородкой лицо Великого Озимандиаса.
— Видите ли, коллега, — пояснил коротышка, — я догадался, что вы попытаетесь, сразу же как проснетесь, проверить… и я чертовски хорошо знал, что у вас будут неприятности. Вот я и подумал, что стоит зайти и исправить неловкую ситуацию.
Вулф молча прикурил сигарету и подал пачку Озимандиасу.
— Думаю, после такого можно перейти на “ты”. Тем более что вчера мы вроде друг другу не “выкали”, — буркнул он. — Когда ты только что вошел… что ты видел?
— Тебя. Ты был волком.
— Тогда оно действительно… я на самом деле…
— Конечно. Ты вполне развитый вервольф, в полном порядке.
Вулф сел на мятую постель.
— Что ж… Думаю… — он все еще колебался. — Придется в это поверить. Но если я поверю в это… тогда мне придется поверить во все, что я всегда презирал! Придется верить в богов, и дьяволов, и в ад, и…
— Вовсе не обязательно бросаться в такой плюрализм. Хотя Бог есть. — Оззи сообщил об этом с той же уверенностью и невозмутимостью, с какой прошлой ночью утверждал, что вервольфы существуют на самом деле.
— Если Бог есть — значит, у меня есть душа?
— Безусловно.
— А если я вервольф… Эй!
— В чем дело, коллега?
— Ладно, Оззи. Ты знаешь все. Скажи мне: я… проклят?
— Да почему? С чего бы? Просто потому, что ты вервольф? Ерунда. Дай я объясню: есть два вида вервольфов. Есть те, которые ничего не могут с собой поделать и превращаются в волков. А есть вервольфы, которые имеют свободу выбора — такие, как ты. Так вот, большинство из вервольфов действительно проклятые, потому что они злые люди, вожделеющие крови и поедающие ни в чем не повинных жертв. Но стали злыми и заслужили проклятие не потому, что они вервольфы, — напротив, они стали вервольфами потому, что были злыми и заслуживали проклятия. А ты — ты превращаешься ради самого процесса, ну или потому, что это показалось тебе хорошим способом впечатлить девчонку. Этот мотив абсолютно невинный, и он не становится менее невинным оттого, что ты вервольф. Вервольф не обязан быть монстром — просто мы слышим в основном именно о таких вервольфах.
— О какой свободе выбора ты говоришь, если я даже не умел превращаться до того, как ты сказал мне, что я вервольф, и научил меня?
— Не все могут обращаться. Это как умение свернуть язык трубочкой или шевелить ушами. Ты либо можешь, либо не можешь — и все. Здесь тоже наверняка задействована генетика, хотя никто всерьез это не исследовал. Ты был вервольфом in posse; теперь ты вервольф in esse.
— Тогда все в порядке? Я могу быть вервольфом только для того, чтобы повеселиться, и это совершенно безопасно?!
— Совершенно.
Вулф возликовал:
— Я покажу Глории! Вот уж поистине “скучный и негламурный”! Кто угодно может выйти замуж за актера или агента ФБР, но вервольф…
— Ваши дети, скорее всего, тоже будут вервольфами, — радостно подхватил Озимандиас.
Вулф мечтательно закрыл глаза, а потом открыл, встрепенувшись:
— Знаешь что?
— Что?
— У меня больше нет похмелья! Это чудо. Это… о да, это практично! Наконец-то найдено идеальное лекарство от похмелья. Перекинуться волком, потом обратно и… кстати, это мне напомнило. Как мне снова становиться человеком?
— АБЗАРКА.
— Я знаю. Но когда я волк, я не могу этого произнести.
— Вот же ж… — печально произнес Озимандиас. — Это все проклятие белой магии! Всегда приходится пользоваться второсортными заклинаниями, потому что самые лучшие заклинания всегда черные. Конечно, с помощью черной магии оборотень может перекинуться обратно, когда пожелает, как в Дарджилинге…
— Но что насчет меня?
— В этом и проблема. Кто-то должен сказать тебе “АБЗАРКА!”. Я сделал это прошлой ночью, не помнишь? После того как мы ворвались на вечеринку в храме твоего друга… Знаешь, у меня есть идея. Я сейчас отошел от дел и всегда найду средства на жизнь, потому что всегда могу наколдовать немного… Ты вообще как — собираешься отнестись к своему вервольфству со всей серьезностью?
— Как минимум на некоторое время. Пока не добьюсь Глории.
— Тогда почему бы мне не пожить здесь, в твоем отеле? Так я всегда могу вовремя сказать тебе “АБЗАРКА!” А когда добьешься девчонки — научишь ее.
Вулф протянул руку.
— Как благородно с твоей стороны! Позволь пожать тебе руку. — Взгляд его упал на циферблат часов на запястье. — Святой боже! Я пропустил две утренние пары! Вервольфство — это очень хорошо, это замечательно, но человеку нужно работать, чтобы жить.
— Большинству людей — да. — Озимандиас спокойно вытянул руку и, вытащив из воздуха монетку, уныло посмотрел на нее. Это была золотая монета достоинством в луидор. — Глупые духи… когда же до них дойдет, что золото сейчас не в ходу?
“Пижон из Лос-Анджелеса!” — подумал Вулф неприязненно, с привычным презрением жителя Северной Калифорнии разглядывая широкое спортивное пальто и ярко-желтую майку посетителя.
Этот молодой человек вежливо поднялся навстречу, когда профессор вошел в кабинет. Его рыжие волосы в свете весеннего солнца казались огненными, а в глазах плясали веселые черти.
— Профессор Вулф? — осведомился он.
Вулф бросил нетерпеливый взгляд на свой стол:
— Да.
— Меня зовут О’Брин. Я хотел бы поговорить с вами пару минут.
— Мои приемные часы с трех до четырех во вторник и четверг. Боюсь, сейчас я довольно занят.
— Это не касается факультетских дел. И это очень важно.
Молодой человек вел себя приветливо и свободно, но ему удалось пробудить любопытство Вулфа, которому передалось ощущение значительности этой беседы. Что ж… Он уже отложил написание сверхважного письма к Глории на время двух пар — пять минут ничего не решают.
— Хорошо, мистер О’Брин.
— И наедине, если позволите.
А Вулф и не заметил, что в комнате находилась Эмили.
Теперь же он повернулся к секретарше и сказал:
— Ладно. Если вы не возражаете, Эмили…
Эмили пожала плечами и вышла.
— Итак, сэр, что это за секретное важное дело?
— Просто парочка вопросов. И начнем, пожалуй, вот с этого… Насколько хорошо вы знаете Глорию Гартон?
Вулф помедлил. Едва ли он мог сказать: “Юноша, я собираюсь сделать ей еще одно предложение, потому что я, оказывается, вервольф”. Поэтому он сказал правду, пусть и не целиком:
— Она… была моей студенткой несколько лет назад.
— Я спросил: как близко вы ее знаете, а не знали. Насколько хорошо вы знаете ее сейчас?
— И почему вы думаете, что я стану отвечать на подобный вопрос?
Молодой человек подал ему карточку.
Вулф прочитал:
Фергюс О’БРИН
Частный детектив
Лицензия штата Калифорния
Вулф усмехнулся:
— И что это значит? Вы собираете улики для бракоразводного процесса? Ведь этим обычно занимаются частные детективы, не так ли?
— Мисс Гартон не замужем, как вы, вероятно, осведомлены. Я только спрашиваю, поддерживали вы с ней связь в последнее время?
— А я просто спрашиваю, с какой стати вас это интересует.
О’Брин встал и начал мерить кабинет шагами.
— Так мы с вами не сдвинемся с места, не так ли? Я правильно понимаю, что вы отказываетесь описывать суть ваших отношений с Глорией Гартон?
— Я не вижу причин, по которым должен поступать иначе. — Вулфа это начинало раздражать.
К его удивлению, детектив широко улыбнулся:
— Хорошо. Давайте о другом. Расскажите мне о своей кафедре. Как давно работают здесь преподаватели?
— Кто конкретно вас интересует? Весь персонал?
— Только профессора.
— Я здесь семь лет. Остальные — по крайней мере десять, а кто-то и больше. Если вам нужны точные цифры — можете получить их у декана. Если только — а я очень надеюсь на это! — он не выкинет вас в окно с вашими дурацкими вопросами. — Вулф радушно улыбнулся.
O’Брин рассмеялся:
— Профессор, думаю, мы сможем найти общий язык. Еще один вопрос — и можете сами выкинуть меня в окно. Вы американский гражданин?
— Конечно.
— А остальные на кафедре?
— Все. А теперь, может быть, соблюдая банальные приличия, вы объясните мне эту фантастическую мешанину вопросов?
— Нет, — просто ответил O’Брин. — До свиданья, профессор.
Он шарил зелеными глазами, внимательно замечая каждую деталь. Потом взгляд его остановился на длинном указательном пальце Вулфа, поднялся к его густым, сходящимся на переносице бровям и снова вернулся к пальцу. Когда он покидал кабинет, в глазах у него было выражение слегка испуганного понимания.
“Все это чушь…” — сказал себе Вулф. Частный детектив, какими бы проницательными ни были его глаза, какими бы откровенно бессмысленными ни были его вопросы, точно был последним человеком на земле, который заметил бы признакиликантропии*.Lycanthropy) — магическая болезнь, из-за которой человек (независимо, магл или маг) становится оборотнем. Болезнью заражают сами оборотни, укусив человека.
Забавно. Слово “вервольф” можно принять. Можно сказать: “Я вервольф”, — и это прозвучит совершенно нормально. Но скажешь: “Я ликантроп”, — и сразу мурашки по коже. Странно. Это могло бы стать материалом для отличной статьи о влиянии этимологии на коннотации для какого-нибудь из известных журналов.
Но, черт побери! Вольф Вулф теперь больше не был в первую очередь ученым. Теперь он был в первую очередь вервольфом, — вервольфом белой магии, вервольфом-весельчаком. И уж он повеселится на славу! Он разжег трубку, уставился на чистый лист бумаги на столе и снова взялся за черновик письма к Глории. Оно должно содержать в себе достаточно многозначительных намеков, чтобы очаровать ее и удержать ее интерес к его персоне, пока он не сможет отправиться на юг, когда закончится учебный год, чтобы раскрыть ей всю замечательную новую правду. Это…
Профессор Оскар Фиринг вошел в кабинет и прохрюкал:
— Добрый день, Вольф. Работаете в поте лица, мальчик мой?
— Добрый день, — рассеянно ответил Вулф, не отрывая взгляда от листа бумаги перед собой.
— Впереди интересные события, а? Небось только и ждете, когда сможете увидеть восхитительную Глорию?
Вулф вздрогнул:
— Откуда… что вы имеете в виду?
Фиринг протянул ему сложенную газету:
— Вы не слышали?
Вулф стал читать с растущим удивлением и радостью:
ГЛОРИЯ ГАРТОН ПРИБЫВАЕТ В ПЯТНИЦУ!
Местная звезда возвращается в Беркли!
В рамках самой значительной охоты за талантами со времен поиска Скарлетт O’Хара Глория Гартон, гламурная звезда кинокомпании “Метрополис”, посетит Беркли в пятницу.
В пятницу днем в университетском театре все собаки нашего города получат шанс побороться за роль волка в грандиозной драме “Клыки леса”, которую готовится снимать “Метрополис”, и сама Глория Гартон будет присутствовать на пробах.
“Беркли очень много для меня значит, — говорит мисс Гартон. — Будет так приятно снова увидеть университет и город”.
Мисс Гартон играет главную человеческую роль в “Клыках леса”.
Мисс Гартон была студенткой Калифорнийского университета, когда ей выдался шанс впервые сняться в кино. Она является почетным членом драматического сообщества “Маска и клинок” и членом женского клуба “Ро-ро-ро”.
Вольф Вулф просиял. Это же великолепно! Ему не придется ждать, пока закончится учебный год, — он сможет увидеться с Глорией прямо сейчас и завоевать ее со всем своим волчьим напором. Пятница… Сегодня среда, значит, у него есть две ночи на отработку техники вервольфства. А потом…
Он заметил удрученное выражение на пожилом лице профессора и почувствовал некоторые угрызения совести.
— Как все прошло вчера вечером, Оскар? — сочувственно спросил он. — Как вы отслужили свою большую Вальпургиеву службу?
Фиринг с подозрением посмотрел на него:
— То есть сегодня вы в курсе… Ведь вчера тридцатое апреля для вас ничего не значило.
— Я заинтересовался и посмотрел. Ну так как все прошло?
— Неплохо, — неубедительно солгал Фиринг. — Вы знаете, Вольф, — спросил он после минутной паузы, — в чем настоящее проклятие любого человека, интересующегося оккультизмом?
— Нет. В чем?
— В том, что настоящей силы всегда недостаточно. Достаточно для тебя, возможно, но не для других. Поэтому независимо от твоих настоящих способностей ты все равно должен быть шарлатаном, чтобы убедить других. Взять хотя бы Сен-Жермена, Фрэнсиса Стюарта илиКалиостро!*Но самая ужасная трагедия — это когда ты понимаешь, что твои способности на самом деле куда больше, чем ты сам предполагал, и в этом обмане и шарлатанстве просто не было нужды. Когда ты понимаешь, что у тебя нет представления о границах своих сил. Тогда…Граф Сен-Жермен и граф Калиостро — знаменитые волшебники и оккультисты XVIII века. Упоминание Фрэнсиса Стюарта, по-видимому, является мистификацией Баучера.
— Тогда, Оскар?
— Тогда, мальчик мой, тебе становится до смерти страшно.
Вулфу хотелось сказать ему что-нибудь в утешение. Например: “Слушай, Оскар, не дрейфь — это был я. Возвращайся к своему лицемерному шарлатанству и будь счастлив!”
Но он не мог этого сделать. Только Оззи должен был знать правду о роскошном сером волке. Только Оззи и Глория.
Луна в этом укромном уголке каньона светила очень ярко. Ночь была спокойной. А у Вольфа Вулфа развилась болезнь — боязнь публики, причем в тяжелой и запущенной форме. Теперь, когда все было по-настоящему — утреннее фиаско с одеждой не считалось, а прошлую ночь он не мог толком вспомнить, — он смертельно боялся становиться волком. Боялся и поэтому без конца болтал, пытаясь отсрочить момент превращения.
— Как ты думаешь, — нервно спросил он волшебника, — смогу ли я научить Глорию тоже перекидываться?
Озимандиас поразмыслил.
— Возможно, коллега. Это зависит от многих условий. У нее может быть природная способность, а может не быть. И конечно же, невозможно предсказать, во что она обратится в случае удачи.
— Ты хочешь сказать, что она необязательно станет волком?!
— Конечно. Люди, способные обращаться, становятся самыми разными существами. И каждый народ больше знает о том, что его интересует в большей степени. У нас английская и центральноевропейская культура — поэтому мы в основном знаем о вервольфах. Но возьми Скандинавию — и услышишь в первую очередь о медведях, только они зовут их берсерками. На востоке же больше знают об оборотнях-тиграх. Проблема в том, что мы настолько много думаем о вервольфах, что знаем только их признаки — вряд ли я бы смог с первого взгляда распознать оборотня-тигра.
— То есть невозможно предсказать, что случится, если я научу ее Слову?
— Ни в коей мере. Конечно, есть существа, в которых просто нет смысла обращаться. Например, муравей: ты перекидываешься, кто-то на тебя наступает — и привет, конец истории. Или как тот малый, которого я встретил на Мадагаскаре. Я научил его Слову — и знаешь что? Разорви меня, если он не оказалсядиплодоком*! Разломал весь дом в куски, перевоплощаясь, и практически затоптал меня, прежде чем я успел сказать “АБЗАРКА!” Он решил не строить на этом карьеру. Ну или опять же тот случай в Дарджилинге… но послушай, коллега, ты собираешься стоять тут голый всю ночь?Диплодо́к, или двудум (лат. Diplodocus), — род ящеротазовых динозавров из группы завропод.
— Нет, — сказал Вулф. — Я сейчас перекинусь. Ты отнесешь мою одежду обратно в отель?
— Конечно. Она будет ждать тебя в номере. Я наложил малюсенькое заклятие на ночного портье — как раз достаточное для того, чтобы он не заметил шныряющих вокруг волков. О, и, кстати, — у тебя из комнаты ничего не пропадало?
— Ничего, что бы я заметил. А что?
— Просто… мне показалось, что я видел, как кто-то выходил сегодня днем из твоего номера. Не могу быть уверен на все сто процентов, но думаю, он вышел именно оттуда — рыжеволосый юноша в голливудской одежде.
Вольф Вулф поднял брови. Чушь какая-то. Бессмысленные вопросы детектива были странными, но обыскивать его номер в отеле… Впрочем, что такое детективы для зрелого вервольфа? Вулф ухмыльнулся, дружелюбно кивнул Великому Озимандиасу на прощание — и произнес Слово.
Боль была не такой сильной, как утром, хотя по-прежнему очень мучительной. Но она почти сразу прошла, и все его тело наполнилось ощущением безграничной свободы. Он задрал морду к небу и глубоко вдохнул пронзительную свежесть ночного воздуха. Целый новый мир удовольствий открывался ему через этот новый чувствительный нос! Он миролюбиво помахал Оззи хвостом и помчался по каньону длинными, легкими прыжками.
Поначалу — и довольно долго, несколько часов — он просто наслаждался: чувствовать себя волком было величайшим удовольствием, о котором только можно мечтать. Вулф покинул каньон и направился к холмам, мимоБольшой “С”*и дальше в относительно дикие места — ему хотелось быть подальше от привычной обстановки студенческого городка с его цивилизацией. Чудесные новые ноги Вулфа были сильными и надежными, дыхание — ровным и глубоким. Каждый поворот приносил новые свежие и яркие ароматы почвы, листьев и воздуха, и жизнь была прекрасна.Большая бетонная буква, установленная в 1905 на холме недалеко от Калифорнийского университета в Беркли. Обозначает начальную букву слова “California”.
Но через несколько часов к Вулфу пришло понимание, что он безмерно одинок. Все это веселье прекрасно… было бы, если бы рядом с ним бежала Глория… В чем прелесть быть волком, если никто не может тобой восхититься? Вулф почувствовал, что хочет к людям, и повернул обратно в город.
Беркли ложится спать рано. Улицы были пусты. Вулф заглянул в светящееся окно одного из домов, где какой-то обстоятельный зубрила трудолюбиво корпел над почти законченной курсовой. Вулф вспомнил, как делал это сам. В нынешнем своем обличье смеяться он не мог, но хвост у него весело заходил из стороны в сторону от этого воспоминания.
На одной из обсаженных деревьями улиц он задержался — здесь был свежий запах человека, хотя вроде бы вокруг никого не было. Прислушавшись, Вулф услышал тихие всхлипывания и рысью понесся на звук.
За кустами у одного из домов сидел безутешный двухлетний малыш, дрожа в своем легком костюмчике, — очевидно, он потерялся уже много часов назад. Вулф положил лапу малышу на плечо и ласково его тряхнул.
Мальчик оглянулся, но не испугался.
— Пи-вет, — произнес он, просветлев.
Вулф приветственно взвыл, помахал хвостом и ударил лапой по земле, показывая, что готов отвести потерянного ребенка туда, куда тот захочет.
Малыш встал и вытер слезы грязным кулаком, оставив на лице широкие темные полосы.
— Ту-ту-ту-ту! — сказал он.
“Игры”, — подумал Вулф. Малыш хочет играть в паровозик. Он взял ребенка за рукав и осторожно потянул.
— Ту-ту-ту-ту! — настойчиво повторил мальчик. — Дай Вэй!
Свисток паровоза это не слишком напоминало. Вулф задумался, и тут, если бы у него сейчас были пальцы, он бы торжествующе щелкнул ими: эта загадочная фраза означает не что иное, как адрес! Малыша как следует натаскали называть свой домашний адрес в случае, если он потеряется. Вулф глянул на уличный знак. Боудич и Хиллегас — Дуайт Вей, 2222 должен быть всего в паре кварталов отсюда.
Вулф попытался кивнуть, но волчьи мускулы на такое неспособны. Поэтому он помахал хвостом, показывая, что понимает, и повел малыша в нужном направлении.
Ребенок лучезарно улыбнулся и сказал:
— Хороший тяф-тяф.
На мгновение Вулф вдруг ощутил себя шпионом, которого назвали настоящим именем, но потом с облегчением догадался, что так малыш просто называет собак.
Он без приключений провел ребенка через два квартала. Ему было приятно иметь дело с таким невинным человеческим существом. В детях было что-то особенное — он надеялся, что Глория тоже это чувствовала. Он подумал, как все может сложиться, если он научит этого доверчивого ребенка Слову. Было бы прекрасно иметь щенка, который будет…
Вулф остановился и тревожно повел носом, шерсть у него на загривке встала дыбом. Перед ним стояла собака: здоровенная дворняга, с виду помесь сенбернара с хаски. Звуки, которые издавал пес, без обиняков сообщали, что вся эта благородная чушь со спасением альпинистов в горах и ношением фляжек с лекарствами была ему чужда, — этот пес был бандитом, он был вне закона, был врагом и людей, и собак. И им нужно было как-то пройти мимо него.
Вулф не хотел драться. Он был размером с этого монстра и, безусловно, гораздо умнее — все-таки у него оставался человеческий мозг. Но шрамы, полученные в собачьей драке, — не лучшее украшение для тела профессора Вулфа, и, кроме того, существовала опасность, что в этой драке пострадает ребенок. Вулф решил, что перейти на другую сторону улицы будет более мудро, но злобная дворняга бросилась на них с лаем и рычанием раньше, чем это решение удалось осуществить.
Вулф встал перед мальчиком, защищая его грудью, готовый вцепиться в горло врагу, если понадобится. Шрамы шрамами, но гораздо важнее было то, что малыш ему доверился, — Вулф готов был оправдывать это доверие любой ценой, даже если пострадает его человеческое тело. Но вдруг огромный пес остановился, его угрожающий рык сменился жалобным скулением, здоровенные бока задрожали, а хвост трусливо свернулся между ног. Секунда — и пес резко развернулся и убежал.
Ребенок обрадовался:
— Плохой тяф-тяф ушел! — Он обнял Вулфа за шею своими маленькими ручками. — Хороший тяф-тяф!
Потом он выпрямился и настойчиво повторил свое:
— Ту-ту-ту-ту, Дай Вэй.
И Вулф повел его дальше, и его сильное волчье сердце стучало так взволнованно, как никогда не стучало в объятиях женщины.
“Ту-ту-ту-ту” был маленьким деревянным домиком, который стоял в стороне от улицы в глубине большого сада. Все окна в нем были освещены, и даже с тротуара Вулф отчетливо слышал пронзительный голос женщины, которая с отчаянием говорила:
— …С пяти часов сегодняшнего дня, и вы должны найти его, офицер. Вы просто обязаны его найти! Мы уже прочесали весь район и…
Вулф встал около стены на задние лапы и позвонил в дверной звонок передней правой лапой.
— О! Возможно, это кто-то, кто видел моего мальчика! Соседи говорили, что они… пойдемте же, офицер, посмотрим. О!
Все произошло одновременно: Вулф вежливо тявкнул, ребенок закричал “мама!”, а его худенькая и уставшая молодая мама издала сдавленный вопль — отчасти от радости, что ее ребенок нашелся, отчасти — от ужаса перед этой огромной серой псиной, которая стояла позади него. Она обняла малыша и повернулась к высокому мужчине в форме:
— Офицер! Смотрите! Какая огромная, ужасная тварь! Это он украл моего Робби!
— Нет, — решительно запротестовал Робби. — Хороший тяф-тяф!
Полицейский рассмеялся:
— А ведь малыш прав, мэм. Это хороший тяф-тяф. Он нашел вашего малыша, который потерялся, и помог ему добраться домой. У вас нет для него косточки? По-моему, он ее заслужил.
— Пустить эту огромную отвратительную дворнягу в мой дом? Никогда! Пошли, Робби.
— Тяф-тяф! Хочу тяф-тяф!
— Я тебе сейчас покажу “тяф-тяф”! Я тебе сейчас покажу, как шататься до ночи и пугать нас с отцом до смерти! Подожди, вот сейчас отец тебя увидит, молодой человек, — он… о, спокойной ночи, офицер!
И она захлопнула дверь под вой Робби.
Полицейский погладил Вулфа по голове.
— Не обижайся из-за косточки, Бродяга. Она и мне не догадалась предложить стакан пива. А ты довольно крупный, не так ли, мальчик? Выглядишь почти волком. Чей ты и что делаешь, бродя вот так сам по себе? А? — Он включил фонарик и наклонился, чтобы посмотреть на несуществующий ошейник.
Не увидев ошейника, полицейский выпрямился и присвистнул:
— Нет лицензии. Это плохо. Знаешь, что я должен сделать? Я должен тебя забрать. Не будь ты героем, которого только что кинули на кость, я… черт возьми, я все равно обязан это сделать. Закон есть закон — даже для героев. Пошли, Бродяга. Прогуляемся.
Вулф быстро соображал. Участок был последним местом на земле, где он хотел бы оказаться. Даже Оззи никогда не догадается его там искать. Никто не объявит огромного серого найденыша своим, некому будет сказать “АБЗАРКА!”, и кончится все в результате смертельной дозой хлороформа… Вулф вывернулся, вырвался из рук держащего его за холку полицейского, одним гигантским прыжком преодолел сад, приземлился на тротуар и со всех ног помчался по улице. Когда офицер уже не мог его видеть, он осторожно пролез под изгородь одного из домов и затаился.
Он учуял приближение полицейского даже прежде, чем услышал его. В том было минимум двести фунтов живого веса, и бежал он с неуклюжей поспешностью. Рядом с изгородью он тоже остановился, и на какое-то мгновение Вулф подумал, что его уловка не сработала. Но полицейский остановился только для того, чтобы почесать голову и пробормотать:
— Хм… А все же во всем этом есть что-то подозрительное. Кто позвонил в звонок? Ребенок не мог бы достать, а собака… ох, ладно. К черту!
Этим односложным высказыванием он подвел итог всем своим сомнениям и размышлениям сразу.
Когда его шаги и запах растворились вдали, Вулф почувствовал еще один сильный запах. Он как раз сумел определить, что запах был кошачий, как кто-то сказал:
— Ты ведь оборотень, не так ли?
Вулф вздрогнул, мышцы напряглись. Он вытянулся в струнку и осторожно осмотрелся: рядом не было никого, кто был хотя бы отдаленно похож на человека, но кто-то с ним говорил! Вулф попытался сказать что-то вроде “где ты?”, но у него получился только негромкий вой.
— Прямо у тебя за спиной. Здесь, в тени. Ты ведь меня чувствуешь, правда?
— Но ты кошка! — то ли подумал, то ли рыкнул Вулф — он уже и сам не понимал, как происходит это общение. — И ты разговариваешь!
— Конечно. Но я говорю вовсе не на человеческом языке. Это твой мозг это так воспринимает. Если бы ты сейчас был в человеческом теле — тебе бы показалось, что я просто мяукаю. Но ты оборотень, не так ли?
— Как ты… почему ты так думаешь?
— Потому что ты не попытался наброситься на меня, как поступила бы любая нормальная собака. И кроме того, если только учение Конфуция не было неправильным, то ты волк, а не собака, а у нас тут нет волков, которые не были бы оборотнями.
— Откуда ты все это знаешь? Ты… Конфуций?!
— О нет. Я просто кошка. Но я жила по соседству с оборотнем — чау-чау по имени Конфуций. Он меня многому научил.
Вулф был поражен.
— Ты хочешь сказать, что он был человеком, но однажды обратился в чау-чау и остался таким?! Стал чьим-то домашним животным и прожил так свою жизнь?!
— Именно. Он был в глубокой депрессии. Он говорил, что собаку больше кормят и ухаживают за ней лучше, чем за человеком. Я думаю, в этом есть смысл.
— Но это же ужасно! Неужели человек способен настолько унизиться, чтобы…
— Люди не унижают себя. Они унижают друг друга. Это путь большинства оборотней. Некоторые обращаются, чтобы их перестали унижать, другие — чтобы еще эффективнее унижать других. Ты из каких?
— Ну, видишь ли, я…
— Ш-ш-ш! Смотри-ка… Это будет забавно. Подыграй мне!
Вулф выглянул осторожно из-за изгороди.
По пустой улице шел хорошо одетый мужчина среднего возраста — он шагал энергично, откровенно наслаждаясь вечерним моционом. За ним неслышными шагами следовал другой человек — худой и высокий. Догнав респектабельного мужчину, он тихо сказал:
— Постой-ка, парень! Не торопись.
Прогуливающийся тут же растерял весь свой лоск, довольное выражение лица сменилось выражением смертельного ужаса, а его собеседник без церемоний сунул руку ему в нагрудный карман и извлек оттуда пухлый бумажник.
“Какой толк, — подумал Вулф, — от этого великолепного сильного тела, если я просто сижу за этой изгородью и наблюдаю за преступлением?!” Одним хорошим прыжком, к удивленному восторгу кошки, которая дружила с оборотнем, он перепрыгнул изгородь и передними лапами впечатался в лицо грабителя. Тот повалился на спину, а потом раздался громкий звук, последовала вспышка света и ноздрей Вулфа коснулся пугающий резкий запах. На секунду Вулф почувствовал резкую боль в плече — как укол длинной иглой, а потом боль ушла.
Но секундного промедления было достаточно, чтобы грабитель успел подняться на ноги.
— Промахнулся, а? — пробормотал он. — Посмотрим, как тебе понравится выстрел в живот, ты, назойливый… — Он употребил выражение, которое никогда не употребляли в кругах, близких профессору Вулфу.
Он трижды выстрелил в упор. Вулф пытался увернуться, подпрыгнул высоко в воздух, но все же пули достигли цели. Пару секунд он испытывал самую жуткую и жгучую боль в своей жизни, затем опомнился и снова бросился на грабителя. Тот упал, ударился головой о тротуар — и замер.
Повсюду в окнах вспыхивал свет. В нарастающем беспокойном шуме Вулф отчетливо слышал пронзительные жалобы матери Робби, а среди мешанины различных запахов он без труда выделил запах того полицейского, который хотел его задержать. Это означало только одно: надо убираться отсюда. И побыстрее.
“Итак, город — это неприятности и сложности”, — решил Вулф, большими прыжками уносясь вдаль. Он вполне может в одиночестве и уединении практиковаться в искусстве быть волком, пока не добьется Глории. Для безопасности, на всякий случай, надо им с Оззи продумать проблему ошейника…
Тут вдруг Вулф задохнулся от осознания невероятного открытия: ведь он как-никак получил четыре пули, три из них пришлись ему прямо в живот, а сейчас он даже не смог бы найти место, где были раны! Да, в способности обращаться в вервольфа действительно имелись практические преимущества. Только подумать, что мог бы натворить, обладая подобной неуязвимостью, какой-нибудь злоумышленник. Или… Но нет. Он-то, Вулф, — вервольф-весельчак. И точка.
Хотя даже для вервольфа словить пулю хоть и не смертельно, но все же довольно неприятно и отнимает много сил. Для волшебного мгновенного затягивания полученных ран требуется много нервной энергии. И вервольфы тоже устают. Поэтому, когда Вольф Вулф добрался до спокойных и безмятежных диких холмов, упиваться свободой он уже был не в состоянии. Вместо этого он вытянулся во всю длину, закрыл лапами морду — и крепко уснул.
“Суть магии, — говаривал Хелиофагус изСмирны*, — это обман. И этот обман — двусторонний: своей магией волшебник обманывает других — но магия обманывает самого волшебника”.Еще одна мистификация Баучера.
До сих пор Вольф Вулф сталкивался в основном с приятной стороной ликантропии, но теперь ему предстояло лицом к лицу столкнуться с другой, не самой лучшей ее стороной. И первым шагом к этому стало то, что он заснул.
Вулф проснулся в смятении. Сны у него были вполне человеческие — про Глорию, несмотря на то тело, в котором он находился. И ему понадобилось несколько минут, чтобы вспомнить, как он оказался в этом теле. На какое-то мгновение даже эпизод из его сна, в котором они с Глорией ели черничные вафли на “американских горках”, казался ему более реальным и правдоподобным, чем действительность.
Но он быстро перестроился и уставился в небо. Было похоже, что солнце встало уже с час назад, а в начале мая это означало, что сейчас между шестью и семью часами утра. Сегодня был четверг — значит, занятия у него начинаются только в восемь. У него оставалось более чем достаточно времени, чтобы перекинуться назад, побриться, одеться, позавтракать и вернуться к нормальной жизни профессора Вулфа, — а эта нормальная жизнь была не менее важная для Вольфа, ведь он собирался содержать жену!
Рысцой труся по улицам, он старался выглядеть как можно более ручным и как можно менее похожим на волка — и, очевидно, достиг успеха: никто не обращал на него ни малейшего внимания, не считая детей, которые хотели с ним поиграть, и собак, которые сначала начинали грозно рычать, а потом убегали, трусливо поджав хвост. Возможно, его кошачья подруга отличалась удивительной толерантностью к оборотням — но псов было трудно в этом обвинить.
Вулф уверенно взбежал по ступенькам “Беркли Инн”. Портье находится под влиянием заклятия и не должен его заметить. Остается только разбудить Оззи, услышать “АБЗАРКА!” и…
— Эй, ты куда собрался? Пошел отсюда! Фу! Вон! Кыш! Брысь!
Это кричал портье, высокий и сильный молодой человек, он стоял на лестнице и яростно махал руками, прогоняя непрошеного гостя:
— Собакам нельзя! Пошел сейчас же! Убирайся!
Было совершенно очевидно, что этот человек не находится ни под каким заклятием. И так же очевидно было, что вбежать по этой лестнице и применить волчью силу, чтобы разорвать портье на куски, ни в коем случае нельзя. На секунду Вулф замер. Ему нужно перекинуться назад! Но он не может опуститься до того, чтобы нанести вред другому человеку. Он сам виноват: если бы он не заснул и пришел до того, как этот незаколдованный дневной портье заступил на смену…
Решение пришло внезапно. Вулф развернулся и кинулся прочь прямо в тот момент, когда портье запустил в него пепельницей. Выстрелы в живот, конечно, были очень болезненными. Но, как только что выяснил Вулф на собственном опыте, филейная часть вервольфа тоже весьма чувствительна к прилетающему по ней стеклу.
Решение было надежным. Самым большим его недостатком было то, что оно требовало часового ожидания, а он был голоден. Смертельно голоден! Он даже с ужасом обнаружил, что испытывает недвусмысленный шокирующий интерес к пухлому пассажиру детской коляски. Действительно, разные тела диктуют разные интересы и вкусовые пристрастия. Он теперь даже начинал понимать, как некоторые изначально действовавшие из лучших побуждений вервольфы могли со временем становиться монстрами. Но его воля была гораздо сильнее, чем у этих несчастных, и он был куда умнее. Желудок может потерпеть, пока план не сработает.
Уборщик уже открыл входную дверь холла, но здание университета было абсолютно пустым. Вулфу не составило труда незаметно добраться до второго этажа и юркнуть в свою аудиторию. Чуть сложнее было удержать в зубах мел: от пыли у него все время немножко свербело в носу и хотелось чихнуть, — но все же он вполне справлялся, упираясь передними лапами в доску. Потребовалось три довольно высоких прыжка, чтобы поймать кольцо на графике зубами, но и это он успешно осуществил. Теперь оставалось только одно: заползти под стол, притаиться, ждать и молиться о том, чтобы не сдохнуть с голоду.
Студенты с германского отделения факультета, группа 31Б, придя на назначенную на восемь часов лекцию по филологии, были, конечно, слегка удивлены, когда увидели график, демонстрирующий влияние золотого стандарта на мировую экономику, но просто списали все на забывчивость уборщика.
Оставаясь незамеченным, волк слушал их непринужденную болтовню. Он послушал, как симпатичная блондинка с первого ряда согласилась на свидания с тремя разными парнями в один и тот же вечер, и, наконец, решил, что народу набралось достаточно, чтобы привести в действие его план. Он чуть-чуть высунулся из-под стола — ровно настолько, чтобы он мог дотянуться до кольца на графике, потянул кольцо и резко отпустил его.
График взлетел вверх, скручиваясь. Студенты прервали свою болтовню и с недоумением уставились на доску, на которой какими-то несусветными каракулями было накорябано странное слово:
“АБЗАРКА”
Сработало. Людей в аудитории было достаточно много, поэтому можно с почти математической уверенностью судить, что один из них в замешательстве обязательно прочитает загадочное слово вслух, — ведь читатели субтитров хоть почти и вымершая в эру звукового кино, но все-таки еще существующая раса. В этот раз таким читателем стала блондинка, которая пользовалась повышенным интересом противоположного пола.
— АБЗАРКА, — озадаченно произнесла она.
И появился профессор Вольф Вулф, радушно улыбаясь аудитории.
План был великолепен. Единственным его недостатком было вот что: Вулф запамятовал, что был всего лишь вервольфом, а не Суперменом. Его одежда благополучно ждала его в “Беркли Инн”. И здесь, на кафедре, перед глазами своих учеников, он стоял абсолютно голый.
Две его лучших ученицы закричали, а одна потеряла сознание. И только блондинка благодарно хихикнула.
Эмили была скептична, но соболезновала.
Профессор Фиринг сочувствовал, но довольно сдержанно.
Заведующий кафедрой был прохладен.
Декан факультета был холоден.
Ректор университета был безразличен.
Вольф Вулф был безработным.
И Хелиофагус из Смирны был прав.
Суть магии действительно в обмане.
— Ну что я могу поделать, — стонал Вулф в свой стакан с “зомби”. — Я влип. Я в тупике. Завтра Глория прибывает в Беркли, и вот он я — ничто. Ничто! Какой-то пустой, никчемный вервольф. На это же нельзя содержать жену! Нельзя растить детей!.. Нельзя… боже, я даже сделать предложение ей не могу! Я хочу еще один коктейль. Ты уверен, что не будешь?
Великий Озимандиас покачал своей круглой бородатой головой:
— Если ты помнишь, в прошлый раз, когда я превысил свою норму и выпил два стакана, то, собственно, все это и заварил. Мне нужно держаться, чтобы это не зашло дальше. Но ты сильный, трудоспособный молодой человек. Без сомнения, коллега, ты найдешь работу.
— Где? Я умею заниматься только академической деятельностью, а этот скандал навсегда положил ей конец! Какой университет согласится нанять человека, который предстал в чем мать родила перед всей своей группой! Причем в этот момент я даже не был пьян — что могло бы хоть как-то объяснить мое поведение! А если менять сферу деятельности — скажем, начать работать на оборону, чем занимаются, кажется, все мои студенты, закончившие обучение, — мне придется предоставить рекомендации, в которых будет написано, что я делал, чем занимался все эти годы — все свои долбаные тридцать лет! И когда эти рекомендации проверят… Оззи, я потерянный человек!
— Никогда не отчаивайся, коллега. Я понял, что магия загнала тебя в ловушку, но всегда есть способ выбраться. К примеру, взять хоть тот раз в Дарджилинге…
— Но что я могу поделать?! Я уже готов, как этот чау-чау, оборотень Конфуций, закончить свои дни у кого-нибудь в доме, получая подачки… если, конечно, ты найдешь кого-нибудь, кто захочет держать волка в качестве домашнего животного!
— Знаешь, — задумался Озимандиас, — а в этом, возможно, что-то есть, коллега.
— Чушь! Это была шутка. Нет, я должен сохранить хотя бы остатки самоуважения — даже в ущерб собственному благополучию. И потом, могу поспорить, потенциальным желающим завести в доме волка точно не понравится то, что этот волк периодически превращается в голого мужика…
— Нет. Я не имел в виду, что тебе нужно становиться чьим-то ручным волком. Но взгляни на это с другой стороны: каковы твои сильные стороны? У тебя всего две выдающиеся способности. Одна из них — учить немецкому языку. Но этот вариант мы уже отбросили…
— Так.
— А другая твоя способность — это способность обращаться волком. Здесь открываются неплохие коммерческие возможности! Давай-ка их рассмотрим.
— Ерунда.
— Не совсем. Для каждого товара есть рынок. Штука в том, чтобы его найти. И ты, коллега, станешь первым настоящим коммерческим вервольфом в истории.
— Я мог бы… Говорят, цирк “Оддиториум Рипли” хорошо платит. Предположим, я могу перекидываться регулярно по шесть раз в день, к вящему удовольствию публики…
Озимандиас скорбно покачал головой:
— Нет, это не то. Не выйдет. Люди не хотят видеть настоящую магию. Она заставляет их задумываться о том, что в мире многое совсем не так, как они представляют. И от этого им становится неуютно. Им нужна уверенность, что все это делается при помощи зеркал. Я-то знаю. Мне пришлось уйти из цирка, потому что не хватило ума мошенничать, — я мог применять только настоящую магию.
— Тогда, может быть, я мог бы стать собакой-поводырем?
— Туда берут только… э-э-э… женщин.
— Когда я волк — я понимаю язык животных. Может, я могу быть кинологом и… нет, это не вариант. Забыл: они же до смерти меня пугаются.
Но бледные голубые глаза Озимандиаса загорелись при этом предположении.
— А вот это теплее, коллега. О, это по-настоящему горячо! Зачем там, ты говорил, твоя легендарная Глория приезжает в Беркли?
— Они ищут талант.
— Какой?
— Собаку, которая сыграет роль в новом фильме.
— И что за собака им нужна?
— В… — Глаза Вулфа расширились, а рот открылся сам собой. — Собака, похожая на волка, — тихо сказал он.
И они посмотрели друг другу в глаза, без слов понимая, что думают об одном и том же…
— Все из-за этого проклятого диснеевского пса, — жаловался дрессировщик. — Этот Плуто может все. Все! Так что от наших собачонок ожидают подобного. Ты только послушай этого придурка: “Собака должна войти в комнату, подать лапу ребенку, показать, что узнает героя в его эскимосском наряде, обойти стол, найти кость и радостно хлопнуть лапами!” И кто может все это сделать?! Только Плуто! — Он презрительно фыркнул.
Глория Гартон произнесла:
— О.
Одним этим “О” она умудрилась сообщить, что глубоко сочувствует, что дрессировщик — привлекательный молодой человек, с которым она не прочь вскоре вновь встретиться и познакомиться поближе, и что ни одной собаке не удастся лишить ее новой картины. Она слегка одернула юбку и откинулась на спинку простого деревянного стула, стоящего на пустой театральной сцене, превратив его скорее в трон.
— Ладно. — Мужчина в фиолетовом берете жестом отправил очередного неудачного претендента восвояси и прочитал следующую фамилию из списка на листке бумаги: — “Собака: Вупси. Хозяин: миссис Чаннинг Гэлбрейт. Дрессировщик: Лютер Ньюби”. Впускайте!
Ассистент суетливо сбежал со сцены и распахнул дверь, из-за которой сразу же понеслись лай и скулеж.
— Что сегодня с этими псами?! — вопросил мужчина в фиолетовом берете. — Они все напуганы до смерти! Или даже больше.
— Думаю, — сказал Фергюс О’Брин, — что дело в этой огромной серой собаке-волке. Почему-то остальным этот пес не нравится.
Глория Гартон опустила свои подкрашенные лиловыми тенями веки и бросила подозрительный взгляд королевы на молодого детектива. В его присутствии не было ничего плохого. Его сестра руководила рекламным отделом “Метрополис”, и он распутал несколько конфиденциальных дел для студии, а одно даже лично для нее, когда ее шофер вдруг решил попытать счастья в шантаже. Фергюс О’Брин был сотрудником “Метрополис” довольно давно, и все равно ее беспокоило его присутствие.
Ассистент ввел Вупси и миссис Гэлбрейт. Человек в фиолетовом берете бросил на них взгляд и заорал. В абсолютной тишине этот крик отрикошетил от всех стен театра. Наконец он отыскал слова:
— Собака-волк! Тука — это величайшая роль, написанная для собаки-волка! И что они нам приводят? Терьера! Если бы нам нужен был терьер — мы бы взяли на эту рольАсту!*Фокстерьер, ставший в середине 1930-х годов своего рода кинозвездой Голливуда и снявшийся в целом ряде известных фильмов. В дальнейшем его заменяли похожими на него собаками с той же кличкой.
— Но если вы только позволите нам показать… — запротестовал высокий молодой дрессировщик Вупси.
— Убирайтесь! — завизжал фиолетовый берет. — Убирайтесь, пока я не потерял терпение!
Вупси с дрессировщиком торопливо удалились.
— В Эль-Пасо, — сокрушался директор по кастингу, — они приводят мне лысую мексиканскую. В Сент-Луисе это пекинес! А если я вдруг и нахожу собаку-волка, то она сидит в углу и ждет, пока ей приволокут сани, которые нужно тащить!
— Возможно, — сказал Фергюс, — стоит попробовать настоящего волка.
— Волка-шмолка! Все кончится тем, что придется заворачиватьДжона Берримора*в волчью шкуру! — Он бросил сердитый взгляд на свой список: — “Собака: Йоггот. Хозяин и дрессировщик: мистер О. З. Мандерс”. Зовите уж!Джон Берримор (1882–1942) — прославленный американский актер, звезда театральных подмостков, а затем и Голливуда, изначально выступавший в амплуа героя-любовника или красавца-злодея. В 1930-х из-за алкоголизма, приведшего к серьезным проблемам с памятью, утратил популярность и вынужден был соглашаться на любые роли, включая эпизодические.
Вой за дверью прекратился, когда Йоггота увели для прослушивания. Человек в фиолетовом берете едва взглянул на хозяина и дрессировщика. Он во все глаза смотрел на этого роскошного серого волка.
“Только бы ты мог играть!” — молился он с тем же рвением, с которым многие мужчины думают: “Только бы ты умела готовить…”
Он сдвинул берет под еще более невероятным углом и рявкнул:
— Ладно, мистер Мандерс. Значит, так. Собака должна войти в комнату, подать лапу ребенку, показать, что узнает героя в эскимосском наряде, обойти стол, найти кость и радостно хлопнуть лапами. Вот ребенок, вот герой, вот стол. Все понятно?
Мистер Мандерс посмотрел на свою собаку-волка и повторил:
— Тебе все понятно?
Йоггот помахал хвостом.
— Замечательно, коллега, — сказал мистер Мандерс. — Исполняй.
И Йоггот исполнил.
Фиолетовый берет отправился в полет на крыльях триумфального крика радости его хозяина:
— Он исполнил! Он сделал это!
— Разумеется, коллега, — спокойно сказал мистер Мандерс.
Дрессировщик, ненавидевший Плуто, был бледен, как отражение вампира в зеркале. Фергюс О’Брин потерял дар речи от изумления. Даже Глория Гартон позволила удивлению и интересу проскользнуть по ее царственной маске.
— Хотите сказать, он может делать что угодно? — пробулькал человек, прежде носивший фиолетовый берет.
— Что угодно, — сказал мистер Мандерс.
— Может ли он… дайте подумать… сцена в танцевальном зале… сможет он повалить человека, перевернуть его и обыскать задний карман?
Даже раньше, чем мистер Мандерс успел ответить “конечно”, Йоггот все это продемонстрировал, используя Фергюса О’Брина в качестве манекена.
— Мир тебе! — облегченно выдохнул директор по кастингу. — Мир… Чарли! — крикнул он ассистенту. — Оправь их всех! Проб больше не будет. Мы нашли Туку! Это великолепно!
Дрессировщик подошел к мистеру Мандерсу:
— Это не просто дрессировка. Тут что-то большее, сэр. Это определенно выше человеческих и собачьих возможностей! Клянусь, я не заметил ни малейшего сигнала — и для столь сложных операций. Скажите мне, мистер Мандерс, какой вы пользуетесь системой?
Мистер Мандерс издал невнятное кхе-кхе:
— Профессиональный секрет, понимаете ли, юноша. Я намереваюсь открыть школу, когда выйду на пенсию, но, сами понимаете, до тех пор…
— Конечно, сэр. Я понимаю. Но я за всю жизнь не видел ничего подобного!
— А я вот все думаю, — задумчиво заметил Фергюс О’Брин, все еще лежащий на полу лицом вниз, — умеет ли ваша чудесная собака также слезать с людей?
Мистер Мандерс подавил усмешку:
— Конечно! Йоггот!
Фергюс поднялся и отряхнул одежду от грязи театральной сцены — самой въедливой грязи на земле.
— Готов поклясться, — пробормотал он, — что ваша зверюга всем этим явно наслаждается.
— Надеюсь, вы не принимаете это близко к сердцу, мистер…
— О’Брин. Вовсе нет. На самом деле я предлагаю отпраздновать это историческое событие! Я знаю, что рядом с университетским городком не купить спиртного, поэтому принес бутылку просто на всякий случай.
— О, — сказала Глория Гартон.
На этот раз “О” означало, что хотя пирушки обычно ниже ее достоинства, но это был особенный случай; и что, возможно, все-таки надо будет поговорить с зеленоглазым детективом.
“Как-то все получается слишком просто”, — размышлял Вольф Вулф — Йоггот. Где-то был подвох. Конечно, это был идеальный способ зарабатывать деньги, будучи вервольфом: стоит поместить понимание человеческой речи и инструкций в хорошее тело животного — и вот ты уже ответ на молитвы режиссера. И все вроде бы шло прекрасно. И если этот фильм станет хитом — обязательно будут и другие фильмы с участием Йоггота. ПримерРин-Тин-Тина*это доказывает. Но это было как-то слишком просто…Немецкая овчарка, активно задействуемая в Голливуде 1920-х годов в ролях волков или охотничьих псов и ставшая необычайно популярной у зрителя.
Вулф услышал знакомое “О”, и его внимание переключилось на Глорию. Теперь это “О” означало, что вообще-то ей бы не стоило больше пить, но, поскольку алкоголь вообще на нее не действует, а случай особенный, можно себе позволить.
Она была даже прекраснее, чем он помнил. Ее золотые волосы теперь были длиной до плеч и ниспадали такими идеальными волнами, что он еле удерживался, чтобы не дотронуться до них лапой. Ее тело тоже окончательно созрело — оно было даже более теплым и манящим, чем в его воспоминаниях о ней. И в своем новом обличье он открыл еще одну сторону ее необыкновенного очарования, которую не мог оценить в полной мере будучи человеком: глубокий, опьяняющий аромат ее плоти.
— За фильм! За “Клыки Леса”! — поднял бокал Фергюс О’Брин. — И да растерзают вашего смазливого героя не хуже, чем меня сегодня!
Вулф-Йоггот улыбнулся про себя. А это было весело! Он преподаст детективу урок за шастанье по чужим номерам в отеле.
— И, празднуя, коллеги, — произнес Великий Озимандиас, — почему же мы обходим вниманием нашу звезду? Иди сюда, Йоггот.
И он протянул волку бутылку.
— Он пьет! — восхищенно воскликнул директор по кастингу.
— Конечно. Он был на этом выкормлен.
Вулф сделал значительный глоток. Ощущения ему понравились — тепло и терпко… почти как пахла Глория.
— Но что насчет вас, мистер Мандерс? — спросил детектив настойчиво, в пятый раз. — На самом деле это ведь ваш праздник. Этот зверь ни за что не научился бы своим многоходовым комбинациям, если бы не вы. А вы выпили всего один стакан.
— Никогда не стоит злоупотреблять спиртным, коллега. Я знаю свою меру. Два стакана — и все закручивается.
— Разве может произойти что-то еще более необычное, чем то чудо дрессировки, которые мы наблюдаем сегодня?! Давай, О’Брин. Заставь его выпить! Интересно посмотреть, что будет.
Фергюс еще раз как следует глотнул.
— Что ж. В машине есть еще бутылка, и я достаточно принял, чтобы понимать, что трезвым я отсюда сегодня не уйду. И я не хочу, чтобы мои собутыльники оставались трезвыми! — Его зеленые глаза уже начинали диковато поблескивать.
— Нет, спасибо, коллега.
Глория Гартон покинула свой трон и подошла поближе к волшебнику, положив свою мягкую руку на его плечо.
— О! — сказала она, подразумевая, что собаки, конечно, собаками, но эта вечеринка все-таки, без сомнения, устроена в ее честь и, отказываясь пить, он наносит ей личное оскорбление.
Великий Озимандиас посмотрел на Глорию, вздохнул, пожал плечами, отдался на волю судьбы — и выпил.
— Много вы собак натренировали? — спросил директор по кастингу.
— Извините, коллега. Это мой первый.
— Тем замечательнее! Но кто же вы тогда по профессии?
— Ну, видите ли, я… волшебник.
— О! — сказала Глория Гартон, выражая радость, и даже зашла настолько далеко, чтобы добавить: — У меня есть друг, который занимается черной магией.
— Боюсь, мэм, моя чисто-белая. Даже она довольно каверзная. А уж с черной магией ты открываешься настоящим опасностям.
— Погодите, — вмешался Фергюс. — Вы имеете в виду — настоящий волшебник? Не просто фокусник с ловкими руками?
— Конечно, коллега.
— Хорошая пьеса, — сказал директор по кастингу. — Только не давайте им зеркал.
— Ага, — кивнул Фергюс. — Но погодите, мистер Мандерс. Что вы, к примеру, можете делать?
— Ну, я могу превращать…
Йоггот громко гавкнул.
— О, то есть нет, — быстро стушевался Озимандиас, — это слегка за пределами моих способностей. Но я умею…
— Вы умеете делать индийский фокус с веревкой? — томно спросила Глория. — Мой друг говорит, что это чудовищно тяжело.
— Тяжело? Ну, мэм, в этом ничего особенного. Я помню тот случай в Дарджилинге…
Фергюс сделал еще один долгий глоток.
— Я, — вызывающе заявил он, — хочу увидеть индийский фокус с веревкой! Мне встречались люди, которым встречались люди, которые его видели, но ближе я никогда не подбирался. И я в него не верю!
— Но, коллега, это так просто.
— Я не верю.
Великий Озимандиас вытянулся во весь свой не слишком впечатляющий рост.
— Что ж! Коллега, вы сейчас его увидите!
Йоггот предупреждающе потянул его за подол пальто.
— Оставь меня в покое, Вулф! На меня возвели клевету!
Фергюс вернулся из флигеля с длинной грязной веревкой в руках:
— Этого хватит?
— Более чем.
— Что теперь? — поинтересовался директор по кастингу.
— Ш-ш-ш! — сказала Глория. — О…
Она лучезарно улыбнулась Озимандиасу, который выпятил грудь до такой степени, что пуговицы чудом не отлетели от рубашки.
— Леди и джентльмены! — объявил он так, словно ему привычно было заполнять огромный амфитеатр своим голосом. — Сейчас вы увидите Великого Озимандиаса с индийским трюком с веревкой! Конечно, — добавил он слегка расстроенно, уже обычным голосом, — у меня нет мальчика, чтобы порубить фарш… если только кто-нибудь из вас… Нет? Ну, значит, попробуем обойтись без этого. Не так впечатляюще, конечно. И перестанешь ты лаять наконец, Вулф?!
— Я думал, его зовут Йоги, — сказал Фергюс.
— Йоггот. Но поскольку он наполовину волк по материнской линии… а теперь тихо, вы все!
Он сворачивал веревку петлей, пока говорил, и теперь положил петлю на сцену, где она затаилась, словно грозная гремучая змея. Он встал подле нее и, бормоча что-то себе под нос, совершил серию пассов так быстро, что даже сверхострые глаза и уши Вулфа-Йоггота не могли за ними уследить.
Конец веревки отделился от петли, взмыл в воздух, покрутился пару секунд, словно раздумывая, в какую сторону направить удар, а потом выстрелил прямо вверх, и летел вверх, пока вся веревка не распуталась. Нижний кончик веревки висел теперь в добром дюйме от сцены.
Глория ахнула. Директор по кастингу торопливо выпил. Фергюс по непонятной причине со странным выражением уставился на волка.
— А теперь, леди и джентльмены, — ох, провались оно все, хотел бы я иметь мальчишку на побегушках, — Великий Озимандиас вознесет эту веревку в те края, о которых знают только использующие веревку. Вперед и вверх! Скоро вернусь, — успокаивающе бросил он Вулфу.
Его короткие толстые пальцы схватили веревку за кончик и слегка дернули. Подпрыгнув, он обхватил коленями веревку и, взбираясь все выше, как обезьяна по шесту, выше, и выше, и выше, вдруг исчез.
Просто исчез. Вот и все, что произошло. Глория была так поражена, что даже не могла сказать “О”. Директор по кастингу уронил свой фиолетовый берет на грязный пол и раскрыл рот от изумления. Фергюс ругнулся тихо и мелодично. А Вулф почувствовал предостерегающее покалывание в спине.
Дверь на сцену открылась, являя двух мужчин в хлопчатобумажных штанах и клетчатых рабочих рубашках.
— Эй! — сказал первый. — Вы где, по-вашему, находитесь?!
— Мы из “Метрополис пикчерз”, — начал объяснять директор по кастингу, вставая на ноги.
— Да хоть из Вашингтона! А нам нужно очистить эту сцену. Здесь сегодня вечером фильм. Давай, Джо, помоги мне их вышвырнуть. И эту шавку тоже.
— Ты не имеешь права, Фред, — сказал Джо и показал пальцем на Глорию. Его голос упал до благоговейного шепота: — Это же Глория Гартон…
— Да ради бога! Привет, мисс Гартон. Бог мой, ну и барахло же все-таки ваш последний фильм!
— Ваша публика, — пробормотал Фергюс.
— Давайте! — закричал Фред. — Вон отсюда! Нам нужно убраться. А ты, Джо, хватай эту веревку!
И прежде чем Фергюс успел шевельнуться, прежде чем Вулф успел прыгнуть ему на помощь — деятельный работник сцены схватил веревку за хвостик и начал сворачивать.
Вулф в оцепенении смотрел наверх. Там ничего не было. Вообще ничего. Где-то там, в этом “ничего”, был единственный человек на свете, который мог сказать для него “АБЗАРКА!” И путь вниз для этого человека был отрезан навсегда.
Вольф Вулф развалился на полу будуара Глории Гартон и наблюдал самое чудесное шоу в мире: Глория раздевалась.
Ситуация была почти идеальная. Это было исполнением всех его самых заветных мечтаний! И единственный недостаток заключался в том, что Вулф все еще находился в волчьем теле.
Глория развернулась, наклонилась и потрепала его по подбородку.
— Кто у нас такой холесий волкопесик, кто?
Вулф не смог сдержаться и рыкнул.
— Не нравится, когда Глория сюсюкает? Ты противный волк, да, ты противный!
Нет, решительно это было пыткой! Быть в номере своей возлюбленной, вся красота которой открыта твоим голодным глазам, и слушать, как она с тобой сюсюкает! Сначала Вулф был даже рад, когда Глория предложила позаботиться о своем четвероногом партнере по фильму в ожидании возвращения его хозяина (никто из них не хотел признавать, что “мистер О. З. Мандерс” мог на самом деле и окончательно исчезнуть), но начинал понимать, что эта ситуация может принести ему гораздо больше страданий, чем удовольствия.
— Волки забавные, — заметила Глория. Она была разговорчивее в одиночестве, когда ей не приходилось быть загадочно-обворожительной. — Я знала одного Вулфа. Но это было только имя — на самом деле он был человеком. И довольно забавным.
Вулф почувствовал, как под серой шкурой неистово заколотилось его сердце. Его имя произносят нежные, теплые губы Глории… Но она не успела рассказать своему новому питомцу, каким забавным был Вулф, — в дверь постучала ее горничная.
— Мистер О’Брин хочет вас видеть, мадам.
— Скажите ему убираться.
— Он говорит, что это важно, и выглядит, мадам, так, будто кого-то ждут неприятности!
— О, ну хорошо, — Глория встала и изящно завернулась в пеньюар. — Пошли, Йог… нет, это глупое имя. Я буду звать тебя… Вёльфи! Это мило. Пошли, Вёльфи, и защищай меня от большого плохого детектива.
Фергюс О’Брин мерил прихожую шагами, вид у него был воинственный. Он замер, когда вошла Глория с волком.
— Итак? — немногословно заметил он. — Подкрепление?
— Мне оно понадобится? — проворковала Глория.
— Слушай, свет и любовь моей жизни! — Его глаза метали молнии, холодные и смертоносные. — Ты играешь в игры, детка, и какая бы игра это ни была — я знаю одно: это точно не крикет!
Глория одарила его томной улыбкой:
— Ты такой занятный, Фергюс.
— Спасибо. Я, впрочем, сомневаюсь, что твои занятия можно назвать столь же занятными!
— Ты все еще не вырос. Мальчик, который играет в воров и полицейских. И за каким ужасным чудовищем ты сейчас охотишься?
— Ха-ха, — не очень-то вежливо ответил Фергюс. — Ты знаешь ответ на этот вопрос лучше меня. И поэтому я здесь.
Вулф был в замешательстве. Этот разговор не имел для него никакого смысла. И все же он отчетливо ощущал опасность — ее запах пропитал буквально все вокруг.
— Ну давай, выкладывай, — поторопила его Глория, явно выказывая нетерпение. — Только помни: “Метрополис пикчерз” не погладит тебя по головке, если ты будешь понапрасну беспокоить самую кассовую ее актрису!
— Есть вещи, моя дорогая, поважнее фильмов, хотя у вас там на киностудии могут думать иначе. Одна из таких вещей — конкретная федерация сорока восьми штатов. Другая — абстрактный концепт, называемый демократией.
— И что?
— А то, что я хочу задать тебе один вопрос: зачем ты приехала в Беркли?
— В рамках рекламной кампании фильма, конечно. Это же была идея твоей сестры!
— Ты с энтузиазмом ухватилась за предложение поехать именно сюда и отказалась от заведомо более удачных и интересных вариантов? С чего бы это?
— Фергюс, а ведь ты и сам темная лошадка. Зачем ты здесь?
Фергюс снова начал мерить комнату шагами:
— Почему первым делом ты отправилась в университет, на кафедру германистики?
— Разве это не естественно? Я там училась!
— Ты училась драматическому искусству — но даже не посмотрела в сторону местного театра. Так почему именно кафедра германистики? — он остановился прямо перед ней, вперив в нее тяжелый взгляд своих зеленых глаз.
Глория приняла вид плененной королевы, гордо отвергающей домогательства завоевателя-варвара:
— Ладно. Очень хорошо. Если хочешь знать — я пошла туда, чтобы… встретиться с человеком, которого люблю!
Вулф изо всех сил старался дышать ровнее и не давать хвосту трястись.
— Да, — пылко продолжала она, — ты заставляешь меня признаться в том, что он — единственный! — должен был услышать первым. Этот мужчина сделал мне предложение по переписке. А я по глупости отказала ему! Но я думала, думала — и наконец все поняла. Я приехала в Беркли прежде всего для того, чтобы увидеть его.
— И как, увидела?
— Эта маленькая серая мышка, его секретарша, сказала мне, что его нет на месте. Но я должна его увидеть! И когда это случится…
Фергюс чопорно поклонился:
— Мои поздравления вам обоим, дорогая. И как же имя этого в высшей степени счастливого джентльмена?
— Профессор Вольф Вулф.
— Вероятно, это о нем говорится здесь, не так ли?! — он вытащил листок бумаги из кармана своего спортивного пальто и резким движением протянул Глории.
Она побледнела и закусила губу.
Но Вольф Вулф не стал дожидаться ее ответа. Ему было все равно, что там написано, в этой бумажонке, — он уже знал решение всех своих и ее проблем. Он незаметно скрылся в ее будуаре.
Глория Гартон вошла в будуар минутой позже, дрожащая и несчастная. Она плеснула себе в бокал хороший глоток виски, а потом бросила взгляд на зеркало — и брови ее взлетели от удивления чуть ли не на лоб. На стекле ее собственной темно-малиновой помадой было каракулями написано загадочное слово:
АБЗАРКА
Нахмурившись, она произнесла его вслух:
— АБЗАРКА…
Из-за ширмы тут же вышел профессор Вольф Вулф, нелепо драпируясь в одно из самых роскошных вечерних платьев Глории.
— Дорогая Глория… — начал он торжественно.
— Вулф! — воскликнула она. — Какого черта ты делаешь в моей спальне?!
— Я люблю тебя. Я полюбил тебя давно — еще тогда, когда ты не смогла отличить сильный глагол от слабого. А теперь, когда я знаю, что и ты меня любишь…
— Это чудовищно! Пожалуйста, уходи!
— Глория…
— Убирайся отсюда немедленно, или я натравлю на тебя свою собаку! Вёльфи! Ко мне, Вёльфи, милый!
— Извини, Глория. Но Вёльфи тебе не ответит.
— О ты, чудовище! Ты обидел Вёльфи?! Ты…
— Что ты, я бы и пальцем его никогда не тронул! Потому что, видишь ли, дорогая Глория… я и есть Вёльфи.
— Какого черта… что ты несешь… — Глория в растерянности оглядывалась.
Приходилось признать, что собака-волк действительно исчезла без следа. И что в комнате откуда-то взялся мужчина, одетый только в одно из ее платьев, у которого явно не было собственной одежды. А после этого смешного маленького человечка с веревкой…
— Ты думала, я однообразный и скучный, — продолжал Вулф. — Ты думала, я так и сгину в академическом болоте. Думала, что тебе больше подойдет актер или агент ФБР. Но, Глория, я представляю собой нечто куда более особенное и необычное, чем ты даже могла себе представить. Больше ни одной душе на свете я не рассказал бы об этом, только тебе, Глория! Я… я вервольф!
Глория ахнула:
— Это невозможно! Но… тогда все сходится. Это объясняет то, что о тебе рассказывают в университетском городке: твоя нелепая выходка в аудитории… и этот твой друг со смешной лысиной… и как он исчез… и, конечно, это объясняет, как ты выполнял все эти трюки, которые ни одной настоящей собаке не под силу…
— Ты не веришь мне, дорогая?
Глория встала с пуфика и упала в его объятия:
— Я верю тебе, дорогой. И это прекрасно! Готова поспорить, во всем Голливуде нет женщины, которая была бы замужем за вервольфом.
— Значит, ты…
— Ну конечно, милый! Все будет просто чудесно — мы со всем справимся сами! Наймем кого-нибудь, кто будет изображать на съемочной площадке твоего дрессировщика. Ты сможешь работать днем, а вечером будешь приходить домой — и я буду говорить для тебя это Слово. Это будет идеально!
— Глория, — мурлыкал Вулф с нежностью и восторгом.
— Только вот что, милый. Одна малюсенькая мелочь. Можешь оказать своей Глории крошечную услугу?
— Что угодно!
— Покажи мне, как ты перевоплощаешься. Обратись для меня сейчас. А потом я сразу же обращу тебя назад.
Вулф тут же произнес Слово. Он пребывал в таком экстатичном блаженстве, что едва заметил боль на этот раз. Он попрыгал на своих сильных волчьих ногах по комнате и остановился перед Глорией, махая хвостом и ожидая ее похвалы.
Глория погладила его по голове.
— Хороший мальчик, Вёльфи. И теперь, дорогой, будет чертовски хорошо, если ты таким и останешься.
Вулф взвизгнул от удивления.
— Ты слышал меня, Вёльфи. Ты останешься волком. Ты же ведь не поверил в эту чушь, которую я скормила детективу? Любить тебя?! Стану я на это тратить время! Но вот таким ты мне можешь очень пригодиться. Поскольку твой дрессировщик исчез, я могу взять на себя заботу о тебе и зарабатывать дополнительно тысячу в неделю или типа того. Я совсем не буду против — лишних денег не бывает даже у кинозвезд! А заодно профессор Вольф Вулф исчезнет навсегда, что прекрасно вписывается в мои планы.
Вулф зарычал.
— Ну-ну, не надо сердиться, дорогой Вёльфи. Ты же не будешь пугать милую Глорию, правда? Помни, что я могу для тебя сделать. Я единственный человек, который может снова превратить тебя. Ты не рискнешь учить этому кого-то еще. Ты же не можешь позволить людям узнать, кто ты на самом деле, потому что глупец тебя убьет на месте, а умный отправит в сумасшедший дом.
Вулф продолжал угрожающе наступать на нее.
— О нет. Ты не сможешь меня обидеть. Потому что мне нужно только произнести одно слово — вон то, которое написано на зеркале. И ты тут же перестанешь быть опасным волком, а станешь просто посторонним мужчиной в моей спальне, и я закричу. И учитывая то, что произошло вчера в кампусе, как ты думаешь, как быстро тебя упекут в психушку?
Вулф попятился и опустил хвост.
— Видишь, милый Вёльфи? Не надо спорить с Глорией, — Глория всегда получает то, что хочет. И ти будешь чертовски хорошим мальчиком, мой холесенький!
В дверь будуара постучали, и Глория крикнула:
— Войдите!
— Вас хочет видеть джентльмен, — сообщила горничная. — Профессор Фиринг.
Глория улыбнулась своей лучшей улыбкой — улыбкой жестокой королевы:
— Пошли, Вёльфи. Тебе это наверняка будет интересно.
Профессор Оскар Фиринг с трудом втиснул свое массивное тело в одно из изящных кресел в гостиной и доброжелательно улыбнулся при входе Глории и волка.
— О, моя дорогая! Новый питомец. Как трогательно!
— И это не просто питомец, Оскар. Вы очень удивитесь, когда узнаете о нем побольше!
Профессор Фиринг начал полировать пенсне рукавом:
— А теперь позвольте, моя дорогая, рассказать вам, что я узнал. Чизвик довел до совершенства свою защитную сетку от магнитных мин, и официальные испытания запланированы на следующую неделю. И Фарнсворт, какой бы еще ерундой ни занимался попутно, все-таки завершил свои исследования нового процесса получения осмия. Военные действия с применением газов могут начаться в любой момент, и сила, способная управлять большим источником…
— Хорошо, Оскар, — перебила Глория. — Но мы поговорим об этом позже. Сейчас у нас есть другая проблема.
— Что вы имеете в виду, дорогая?
— Вы встречались с рыжим молодым ирландцем в желтой рубашке?
— Нет, я… хотя да. Я видел, как этот индивидуум выходил вчера с кафедры. Мне кажется, он приходил встретиться к Вольфу.
— Он напал на след. Он детектив из Лос-Анджелеса и выслеживает нас. Он где-то обнаружил фотографии, которые никогда не должны были выплыть на поверхность. Он знает, что на них есть я, и знает, что я связана с кем-то с вашей кафедры…
Профессор Фиринг тщательно исследовал свое пенсне, удовлетворился его чистотой и нацепил себе на нос:
— Не надо так переживать, дорогая. Не нужно истерики. Давайте подойдем к этому максимально спокойно. Он знает о Храме Темной Истины?
— Пока нет. Как и о вас. Он просто знает, что это кто-то с кафедры.
— В таком случае — что может быть проще? Вы слышали о странной выходке Вольфа Вулфа?
— Еще бы! — громко рассмеялась Глория.
— Всем известно, как страстно Вольф увлечен вами. Пусть во всем обвинят его! Это будет очень легко сделать, и таким образом мы снимем с себя все подозрения. Направьте все внимание на него — и организация будет в безопасности. Храм Темной Истины сможет продолжить идти своим мистическим путем и получать еще более ценную информацию от ученых, уставших хранить тайны и нуждающихся в эмоциональной разрядке с помощью фальшивой религии.
— Это я и попыталась сделать. Я выдала O’Брину трогательную историю о моей любви к Вольфу — причем настолько откровенно фальшивую, что он наверняка подумает, что это было прикрытием для чего-то другого. И я думаю, О’Брин попался на удочку. Но ситуация на самом деле сложнее, чем вы думаете. Вы знаете, где сейчас Вольф Вулф?
— Никто не знает. После того как директор… ээээ… сделал ему выговор, Вулф исчез.
Глория снова рассмеялась:
— Он здесь, профессор. В этой комнате! Прямо перед вами!
— Моя дорогая! Секретные панели и все такое? Вы слишком близко к сердцу принимаете свой шпионаж. Где?
— Здесь! Вот он! — и она указала на волка.
Профессор Фиринг разинул рот:
— Вы серьезно?!
— Так же серьезно, как и вы насчет будущего фашизма. Это Вольф Вулф.
Фиринг с недоверием подошел к волку и протянул руку.
— Он может укусить, — предостерегла Глория слишком поздно.
Фиринг уставился на кровоточащую руку.
— Что ж, по крайней мере, — заметил он, — это неоспоримое доказательство, что вы говорите правду.
И он поднял ногу, чтобы нанести удар.
— Нет, Оскар! Не надо! Оставьте его. И вам придется поверить мне на слово — это слишком сложно объяснить. Но этот волк — это действительно Вольф Вулф, и он находится полностью под моим контролем. Он абсолютно в наших руках. Мы переключим подозрение на него, и я буду держать его в этом обличье, пока Фергюс со своими друзьями-агентами не побежит по его следу и не оставит нас в покое.
— Дорогая! — воскликнул Фиринг. — Вы сошли с ума! Вы даже более сумасшедшая, чем самые преданные члены моей церкви! — Он снял пенсне и снова уставился на волка. — И все же тогда, во вторник вечером… скажите-ка мне одну вещь: у кого вы взяли эту… эту собаку-волка?
— У забавного толстого коротышки со смешной круглой бородкой.
Фиринг ахнул. Он вспомнил хаос в храме, и волка, и круглую бороду…
— Очень хорошо, милая. Я вам верю. Не спрашивайте почему, но я вам верю. А теперь…
— Итак, все решено, не так ли? Мы держим его здесь, совершенно беспомощного, в то время как он становится…
— Волк в качестве козла отпущения. Да. Очень мило.
— О! Еще одно… — У нее на лице вдруг появилось выражение испуга.
Вольф Вулф обдумывал возможность внезапного нападения на Фиринга. Он наверняка сможет выскочить из комнаты раньше, чем Глория успеет сказать “АБЗАРКА!” Но что потом? Кому он может довериться, чтобы снова стать человеком? Особенно если по его следу пустят ФБР.
— Что такое? — спросил Фиринг.
— Эта его секретарша. Эта маленькая мышка с кафедры. Она знает, что я спрашивала про вас, а не про Вулфа, когда приходила. Фергюс, видимо, еще с ней не говорил, потому что проглотил мою сказку, но поговорит. Обязательно поговорит — он очень дотошный.
— Хм-м. Ну, в таком случае…
— Да, Оскар?
— О ней придется позаботиться, — добродушно улыбнулся профессор Оскар Фиринг и потянулся к телефону.
Вулф действовал мгновенно, не раздумывая и руководствуясь импульсом. Его зубы были достаточно сильными, чтобы сорвать телефонный провод со стены. Это заняло всего секунду, а в следующую секунду он был уже в коридоре — до того как Глория успела открыть рот и сказать слово, которое превратило бы его из сильного и опасного волка в слабого профессора филологии.
Вслед ему неслись испуганные крики, пока он мчался через лобби отеля, но он не обращал на них внимания. Сейчас важнее всего было добраться до дома Эмили раньше, чем о ней “позаботятся”. Ее свидетельство было крайне важным — оно могло указать Фергюсу и его людям, в каком направлении нужно двигаться и где искать виновных. И кроме того, признался Вулф самому себе, Эмили была чертовски милой девушкой…
Частота столкновений Вулфа с прохожими была примерно 1,66 на квартал, и он получил столько проклятий в свой адрес, что, если бы они действовали на самом деле, их хватило бы, чтобы навести на него вечную порчу. Но у него было мало времени, и это было единственным по-настоящему важным. Он несся, не глядя на сигналы светофоров, подрезал грузовики, выскакивал из-под трамвая и однажды даже перепрыгнул остановившуюся машину, которая преградила ему путь. Все шло как надо, и он был уже на полпути, когда вдруг на него обрушились со всей мощью двести фунтов человеческой плоти.
Он посмотрел вверх сквозь яркие круги и звезды перед глазами — результат удара головой об асфальт, — и увидел своего старого знакомого, полицейского, которого кинули на пиво.
— Итак, Бродяга! — сказал полицейский. — Я все-таки поймал тебя, а? Теперь давай глянем, носишь ли ты бирку с лицензией. А ты и не знал, что я играл в регби, а?
Он крепко держал Вулфа за шкуру — это было довольно болезненно. Вокруг собралась толпа зевак, которые давали полицейскому самые дурацкие и противоречивые советы.
— Проходите, ребята, — увещевал он. — Это приватный разговор между мной и собакой. Проходите!
И он все крепче держал Вулфа за загривок.
Вулф все-таки вырвался, оставив большой клок шерсти в кулаке полицейского, и почувствовал, как из того места на шее, где теперь не хватало шкуры, закапала кровь. Он услышал сочное ругательство и одновременно выстрел пистолета — и его ударило в плечо, словно игла впилась ему в кожу. Охваченная страхом толпа расступалась перед ним. Ему вслед полетели еще две пули, но он исчез из виду, оставив за спиной самого потрясенного полицейского Беркли.
— Я попал в него! — тупо бормотал полицейский. — Я же попал в…
Вольф Вулф бежал вдоль Дуайт Вей. Еще два квартала — и он достигнет маленького бунгало, которое Эмили снимала вместе с одной из ассистенток кафедры. Вырвав телефонный провод, Вулф остановил Фиринга только на время — причем ненадолго: сейчас все приказы уже, должно быть, отданы и получены… и убийца уже в пути. Но Вулф был почти на месте…
— Пивет! — позвал его тонкий детский голосок. — Холесий тяф-тяф вернулся!
На противоположной стороне улицы стоял дом Робби и его родителей. Мальчик играл на тротуаре, а теперь, увидев своего друга и спасителя, он начал переходить дорогу неуверенной детской походкой.
— Холесий тяф-тяф! — продолжал звать он. — Подозди Робби!
Вулф, не снижая скорости, несся дальше — у него не было времени на игры даже с самым восхитительным щенком! А потом он увидел машину. Это был древний драндулет — пожалуй, даже старше Вулфа. И сидевший за рулем старшеклассник, очевидно, показывал своей девушке, как эта развалина может разогнаться на этой пустой улице. Девушка была симпатичная — кто в такой ситуации будет тратить время, глядя, нет ли на дороге детей?
Машина мчалась прямо на Робби. Вулф прыгнул, вытянувшись в струнку. Он пролетел так близко к машине, что почувствовал тепло радиатора на своем боку. Передними лапами он сильно толкнул Робби, они вместе упали на землю, и машина пронеслась по последнему позвонку в хвосте Вулфа.
Симпатичная девушка вскрикнула.
— Гомер! Мы их сбили?!
Гомер ничего не ответил, и драндулет унесся прочь.
Робби кричал:
— Ты сделал мне больно! Ты сделал мне больно! Плохооооой тяф-тяф!
К его громким воплям присоединилась мать, выскочившая на крыльцо, — она завывала как сирена. Какофония была чудовищная. Вулф тоже издал нечто вроде воя, чтобы оплакать свой сломанный хвост и сделать эту какофонию безукоризненной, и помчался дальше. У него не было времени разбираться с этими недоразумениями.
Но и этих двух задержек хватило. Маленький Робби и полицейский, сами не догадываясь о том, сыграли очень на руку Оскару Фирингу. Приближаясь к бунгало Эмили, Вулф увидел, как от него отъезжает серый седан. На заднем сиденье пыталась вырваться и отчаянно сопротивлялась похитителям маленькая фигурка.
Даже невероятно быстрый вервольф не в состоянии состязаться в скорости с автомобилем. После квартала погони Вулф сдался и, тяжело дыша, сел на асфальт. Даже в этот драматичный момент он не мог не отметить забавное ощущение: он не вспотел, и ему приходилось открывать рот, чтобы вывалить язык и…
— Проблемы? — осведомился заботливый голос.
На этот раз Вулф узнал кошку.
— О небо, да! — искренне признался он. — И гораздо серьезней, чем ты можешь себе представить.
— Ты голоден? — спросила кошка. — Но этот малыш, которого ты спас… он вполне хороший и толстенький.
— Заткнись, — прорычал Вулф.
— Прости, я просто судила по тому, что Конфуций рассказывал мне о вервольфах. Ты ведь не хочешь сказать, что ты добрый оборотень-альтруист?
— Видимо, так и есть. Я знаю, что вервольфы должны устраивать массовую резню и все такое, но сейчас я должен спасти кое-кому жизнь.
— Думаешь, я в это поверю?
— Это правда.
— Ах, — философски заметила кошка. — Правда — это темная и обманчивая штука.
Вольф Вулф поднялся на ноги.
— Спасибо, — гавкнул он. — Ты мне очень помогла!
— Помогла в чем?!
— Увидимся позже. — И Вулф помчался на максимальной скорости к Храму Темной Истины.
Да, это был его шанс. Наверняка Храм — это штаб Фиринга. Очень большая вероятность, что, когда не используется для службы, он становится местом сбора его сторонников, особенно учитывая, что рядом находится консульство. Вулф снова бежал и прыгал, нырял в узкие проходы. Теперь он знал, что хоть он и неуязвим для пуль — все же не стоит под ними бегать. Сломанный хвост до сих пор беспокоил его и мучительно болел. Но ему нужно было добраться до места! Ему нужно было спасти свою репутацию — без конца напоминал он себе. Но на самом деле его гораздо больше волновала судьба Эмили.
В квартале от храма он услышал звуки выстрелов. Пистолетные выстрелы, и — он мог поклясться! — автоматные тоже. Что это значит, Вулф не понимал, но на всякий случай прибавил скорости. Неожиданно мимо него проехал ярко-желтый автомобиль, и из его окна вырвалась яркая вспышка. Вулф инстинктивно увернулся — ты можешь быть каким угодно пуленепробиваемым, но все же не станешь просто стоять спокойно, принимая их в себя.
Автомобиль исчез за поворотом, и Вулф собирался последовать за ним, как вдруг у него перед глазами пролетело что-то маленькое и блестящее. Не попав в него, пуля ударилась о кирпичную стену и срикошетила обратно на тротуар. Она сверкала, лежа на тротуаре перед ним, — чистое серебро!
“Значит, неуязвимости конец”, — внезапно осенило Вулфа. Фиринг поверил Глории. Даже несмотря на свое довольно скептическое отношение ко всем этим оккультным штучкам, Вулф прекрасно знал, какое оружие эффективно против вервольфа. Отныне пуля означала для него не безобидный укол иглой, а мгновенную смерть.
И все же Вольф Вулф помчался дальше.
Он осторожно приблизился к Храму, прячась в кустах. Он был не единственным спрятавшимся. Перед Храмом, присев за машиной, все стекла которой были выбиты, затаились Фергюс О’Брин и круглолицый гигант. Они держали по автоматическому пистолету и то и дело беспорядочно стреляли по куполу Храма.
Чуткий волчий слух Вулфа мог уловить их слова даже поверх стрельбы:
— Гейб скоро будет, — говорил круглолицый, — но все без толку. Знаешь, что это за купол? Это крутящаяся автоматная башня. Они были готовы к чему-то подобному. Там всего два человека, по нашим данным, но эта башня закрывает все подходы.
— Всего двое? — пробормотал Фергюс.
— И девчонка. Они привезли с собой девчонку. Если, конечно, она еще жива.
Фергюс тщательно прицелился, выстрелил в купол и спрятался обратно за машину. Пролетевшая в ответ пуля чудом не задела его, пройдя буквально в миллиметре.
— Снова промазал! Ради всех предков, владевших Тарой, Круг, ведь должен же быть способ туда войти! Как насчет слезоточивого газа?
Круг фыркнул:
— Думаешь, сможешь попасть в бойницу этой армированной башни под таким углом?
— Вот только девчонка… — протянул Фергюс.
Вулф не стал больше ждать. Когда он прыгнул вперед, стрелок в башне заметил его и переключил огонь. Это был как ливень из иголок, когда льется одна только чистая сталь. Нервы Вулфа нестерпимо болели все разом. Но по крайней мере автоматы в башне стреляли не серебром.
Входная дверь была закрыта, но он без труда вышиб ее, добавив пульсирующую боль в плече к остальным неудобствам. Охранник первого этажа, человек с одутловатым лицом и выступающим адамовым яблоком, вскочил на ноги, схватив пистолет. За ним, среди сектантского мусора, церемониальных одежд, ароматических палочек, глупых книг и даже доски для спиритических сеансов, лежала связанная Эмили.
Охранник выстрелил. Пуля ударила Вулфа прямо в грудь, и на какое-то мгновение он подумал, что сейчас умрет, но этого не произошло, и он прыгнул вперед. Это не был его обычный мощный прыжок — силы у него к этому моменту практически кончились. Сейчас бы полежать на прохладной земле, давая мышцам и нервным окончаниям восстановиться. Прыжка хватило только на то, чтобы схватиться с противником, но не повалить его.
Охранник перевернул бесполезный автоматический пистолет и ударил зверюгу прикладом по черепу. Вулф отшатнулся, потерял равновесие и упал на пол. Какое-то время он не мог встать. Было так велико искушение просто прилечь здесь и…
Девушка шевельнулась. Связанными руками она схватила одну из досок для спиритических сеансов за угол, как-то умудрилась встать на связанные ноги и подняла руки. И в ту секунду, когда одутловатый охранник бросился на обессиленного волка с намерением прикончить его, она обрушила тяжелую доску на голову нападающего.
Вулф уже поднялся — ему удалось победить это секундное искушение. Он уставился на выступающее адамово яблоко врага и невольно облизнулся, продемонстрировав длинный язык. Потом послышалась автоматная очередь из башни, и Вулф отвел взгляд от пребывающего в отключке охранника.
Подниматься по лестницам для волка непросто. Практически невозможно. Но если использовать челюсть, чтобы схватиться за ступеньку и подтянуться, это выполнимо. Он был на полпути наверх, когда стрелок его услышал. Стрельба прекратилась, и до ушей Вулфа донеслось сочное немецкое ругательство, в котором он машинально распознал восточнопрусский диалект с возможным литовским влиянием. Потом он увидел и самого стрелка, блондина со сломанным носом, который смотрел в лестничный колодец.
Пули охранника были свинцовыми. Так что у этого они должны быть серебряными. Но отступать было слишком поздно. Вулф уцепился за следующую ступеньку и подтянулся, а пуля попала ему в морду и прошла в глубь черепа. Глаза блондина расширились, и он снова выстрелил, а Вулф поднялся еще на одну ступеньку. Как раз на третьем выстреле он достиг верха лестницы и ворвался в дверной проем.
Снизу все еще звучали выстрелы, но стрелок не отвечал на них. Он стоял, оцепенев, у стены башни, в ужасе смотря, как на него надвигается волк. Вулф остановился и попытался перевести дыхание. Он был смертельно измотан и напряжен… но этого врага он должен одолеть.
Блондин поднял пистолет, осторожно прицелился и еще раз выстрелил в упор. Он замер на мгновение, глядя на этого волка, которого невозможно было убить. По бабушкиным сказкам, он знал, кто был сейчас перед ним. Тогда он решительно сжал зубами дуло пистолета и снова выстрелил.
Вулф за все время пребывания в своем волчьем теле еще ни разу не ел, но, должно быть, еда каким-то образом перешла из человеческого желудка в волчий. И ее было достаточно, чтобы он чувствовал тошноту, делая свою работу.
Спуститься по лестнице было невозможно, поэтому он прыгнул. Он никогда не слышал о том, чтобы волки приземлялись на ноги, как кошки, прыгая с высоты, но оказалось, что волки это тоже умеют. Он с трудом поковылял в ту сторону, где Эмили все еще сидела около потерявшего сознание охранника, держа в руке пистолет, который тот выронил. Когда волк подошел к ней, она вздрогнула, потому что не знала — враг он ей или друг.
Времени не было. Теперь, когда из башни больше не стреляли, Фергюс с компанией мог ворваться в Храм в любую секунду. Вулф поспешно огляделся и нашел доску для спиритических сеансов. Он прижал кусочек дерева в форме сердца к планшетке и начал двигать по ней лапой.
Эмили наблюдала за его действиями сосредоточенно и удивленно.
— А, — сказала она вслух. — БЗ…
Вулф закончил слово и отодвинулся к куче церемониальных одеяний.
— Ты пытаешься что-то сказать? — подняла брови Эмили.
Вулф замахал хвостом, с жаром соглашаясь, и снова начал двигать дощечку.
— А, — повторила Эмили, — БЗАР…
Он уже слышал приближающиеся шаги.
— …КА. Какого черта! Что это может значить? АБЗАРКА…
Экс-профессор Вольф Вулф поспешно завернул свое голое человеческое тело в мантию служителя Храма Темной Истины. И прежде чем Эмили или сам он смогли хоть что-нибудь понять, он обнял ее, поцеловал с выражением огромной благодарности на лице и… потерял сознание.
Когда Вулф очнулся, даже несовершенное человеческое обоняние без труда подсказало ему, что он находится в больнице. Он все еще не мог как следует управлять своим телом. Место на шее — там, где полицейский вырвал кусок его шкуры, — все еще кровоточило и болело, а там, куда пришелся приклад, выросла здоровенная шишка. Самым удивительным и необъяснимым были волны острой боли на месте отсутствующего на данный момент хвоста — видимо, это и носит в медицине название фантомных болей. Но простыни, на которых он лежал, были чистыми и прохладными, он отдыхал, и Эмили была в безопасности.
— Я не знаю, как вы попали туда, мистер Вулф, и как вы это сделали, но хочу, чтобы вы знали, что сослужили своей стране хорошую службу, — говорил круглолицый гигант.
Фергюс О’Брин тоже сидел около его кровати.
— Поздравляю, Вулф. И… не знаю, одобрит ли доктор, но… вот.
Вольф Вулф с благодарностью выпил виски и вопросительно взглянул на гиганта.
— Это Круг Лафферти, — сказал Фергюс. — Он из ФБР. Он помогал мне выслеживать эту шпионскую организацию с того самого момента, как я впервые о них услышал.
— Вы их всех взяли? — спросил Вулф.
— Фиринга и Гартон взяли в отеле, — прогрохотал Лафферти.
— Но как… я думал…
— Думали, мы охотились за вами? — ответил Фергюс. — Так думала и Гартон, но я не попался на ее удочку. Видите ли, к моменту разговора с ней я уже поговорил с вашей секретаршей. Я знал, что она приходила к Фирингу. А когда я поспрашивал о Фиринге и узнал о Храме и оборонных исследованиях некоторых членов его секты, вся картинка прояснилась и все встало на свои места.
— Прекрасная работа, мистер Вулф, — сказал Лафферти. — Если мы когда-то сможем для вас что-то сделать… И как вы только пробрались в эту автоматную башню… Что ж, О’Брин, увидимся позже. Нужно разобраться с остальными участниками этой компании. Скорейшего выздоровления, мистер Вулф.
Фергюс подождал, пока агент выйдет из комнаты, потом нагнулся к Вулфу и спросил доверительно:
— Какие планы, Вулф? Возвращаетесь к актерской карьере?
Вулф охнул про себя, постарался не подать виду:
— Какой актерской карьере?
— Все еще собираетесь играть Туку? Если, конечно, “Метрополис” согласится снимать мисс Гартон в федеральной тюрьме.
Вулф пробормотал:
— Что за чепуху вы…
— Бросьте, Вулф. Совершенно очевидно, что я знаю достаточно. Можете уже рассказать всю историю.
Совершенно ошеломленный, Вулф рассказал все.
— Но ради всего святого, откуда вы знаете? — завершил он.
Фергюс улыбнулся.
— Объясняю. Дороти Сейерс говорила, что в детективном рассказе сверхъестественное может появиться только для того, чтобы впоследствии развеяться. Конечно, это преувеличение. Потому что в реальной жизни бывают случаи, когда оно, это сверхъестественное, не рассеивается. И это был один из таких случаев. Все было слишком очевидно. Твои брови и пальцы, настоящие магические способности твоего друга, трюки, которые ни одна собака не может выполнить без сигналов, то, как скулили и дрожали другие собаки… я довольно практичный человек, Вулф, но я ирландец. И хотя я материалист до мозга костей — но тут было слишком много совпадений. Чересчур.
— Фиринг тоже в это поверил, — задумчиво сказал Вулф. — И вот что меня беспокоит: я не могу понять — если они один раз использовали против меня серебряную пулю, почему остальные были свинцовыми? Почему потом мне ничто не угрожало?
— Ну, — сказал Фергюс слегка смущенно. — И это я тоже могу вам объяснить. Потому что это не они выстрелили серебряной пулей. Видите ли, до последней минуты я думал, что вы на их стороне. Я почему-то не ассоциировал вервольфа с добром. Поэтому я взял оттиск пули у оружейника, заглянул к ювелиру и… я чертовски рад, что промахнулся, — искренне добавил он.
— Вы рады!
— Но послушайте, Вулф, вы так и не ответили на мой вопрос. Вы собираетесь вернуться к актерству? Потому что, если нет… у меня есть предложение.
— Какое?
— Я знаю, что вы хотели бы быть волком — но при этом зарабатывать средства к существованию. Отлично! Вы сильный и быстрый. Вы можете запугивать людей до такого состояния, что они готовы будут выброситься из окна. Вы можете подслушивать разговоры, недоступные ни одному человеку. Вы неуязвимы для пуль. Можете назвать более ценные характеристики для агента ФБР?
Вулф вытаращил глаза:
— Я? Агент ФБР?!
— Круг говорил, что они остро нуждаются в новых толковых работниках. Они недавно изменили необходимые характеристики, поэтому ваши языковые навыки сработают не хуже юриспруденции или бухучета, которые требовались раньше. И после того, что вы сделали сегодня, замять маленький академический скандал в вашем прошлом не составит проблемы. Круг от вас в полном восторге.
Вулф лишился дара речи. Всего три дня назад он страдал оттого, что не актер или не агент ФБР. Теперь…
— Подумайте об этом, — сказал Фергюс.
— Я подумаю. Еще как подумаю. О, и еще одно. Есть какие-нибудь следы Оззи?
— Ни единого.
— Мне нравится этот парень. Я должен попытаться отыскать его и…
— Если он такой волшебник, как я думаю, то он сидит там наверху только потому, что ему это по душе.
— Не знаю. Магия — коварная штука, я это понял. Я все-таки сделаю все возможное, все, что от меня зависит, чтобы найти эту бородатую лысину.
— Что ж… Желаю удачи. Пригласить следующего посетителя?
— Это кого?
— Вашу секретаршу. Она здесь, без сомнения, исключительно по работе.
И Фергюс деликатно удалился, уступив место Эмили.
Она подошла к кровати и взяла Вулфа за руку. Его глаза утонули в ее спокойных, полных нежности глазах. И он поймал себя на мысли, что только глупец мог не замечать ее тихого очарования и прелести и соблазниться грубым, кричащим “гламуром” Глории.
Они долго молчали. Потом произнесли хором одну и ту же фразу:
— Как мне отблагодарить вас? Вы спасли мне жизнь.
Вулф рассмеялся:
— Давай не будем спорить. Давай скажем так: мы спасли жизнь друг другу.
— Правда? — серьезно спросила Эмили.
Вулф сжал ее руку:
— Ты не устала быть всеобщей мамочкой? Может быть, настало время стать мужней женой?
На базаре в Дарджилинге уличный факир Чулундра Лингасута пялился на свою веревку с тупым изумлением. Его помощник, юный Али, забрался по ней наверх всего пять минут назад. А теперь, спустившись, он вдруг стал на сотню фунтов тяжелее и со странной такой бородой — как будто по кругу… -
Розовая гусеница
- Предисловие | +
- Джеффри Маркс в своей книге о детективном наследии Энтони Баучера справедливо отмечает, что здешний рассказчик по имени Тони, несомненно, сам Баучер, постмодернистски беседующий со своим постоянным сыщиком и с его “Ватсоном” из “Дела о крепком ключе”. В то же время Маркс почему-то счел, что действие рассказа происходит на одном из тихоокеанских фронтовых островов, где персонажи беседуют, будучи призванными в армию в ходе Второй мировой войны, хотя в исторической реальности Баучер в армии никогда не был. На самом деле местом действия служит, очевидно, Калифорния, куда прибыл в отпуск Харкер, который и является единственным мобилизованным из всех троих, в то время как О'Брин, по-видимому, занимается некой разведывательной деятельностью.
Названия острова Норман нам не сообщил. Полторы полоски нарукаве*придавали ему осмотрительности, а Токио еще не выяснил, какими секретными сооружениями флот занимается в этой крохотной области южной части Тихого океана. Об этих сооружениях он, конечно, говорить не мог; но остров позволял ему развлекать нас, сидящих там, в “Вершине”, множеством других вещей.В армии США звания рядового и сержантского состава обозначаются полосками на рукаве. Полторы полоски соответствуют капралу, то есть следующему по старшинству званию сразу после рядового.
— Что бы ты заказал, Тони, — спросил он, — имея такой карт-бланш на будущее?
— Насколько далекое будущее?
— Говорят, туалала отправляется на сотню лет вперед — ни больше, ни меньше.
— Деньги не пригодятся, — задумался я. — Может, драгоценности. Или прибор — любой прибор — можно изобрести его прямо сейчас и разбогатеть. Но тогда он может зависеть от еще не открытых принципов... Или “Унесенные ветром” двадцать первого столетия — опубликовать их сейчас и сорвать куш. Представьте, как сегодняшние бестселлеры конкурируют с Диккенсом? Нет... сложный вопрос. Что предложил ты?
— Мы в итоге остановились на надгробии Гитлера. Подумай, за сколько мы могли бы продавать входные билеты!
— И?..
— И ничего. Мы не могли уплатить туалале его цену. За всякую вещь, добытую во времени, он хотел одну девственницу с соседнего острова. Мы чувствовали, что нас могут не понять, если мы отправимся их ловить. В магии всегда есть подвох, — легкомысленно заключил Норман.
Фергюс угукнул и серьезно кивнул. За весь вечер он почти не проронил ни слова — просто сидел и смотрел на ночную панораму бухты, поблескивающей в потухающих сумерках, и слушал. Я до сих пор не знаю, какую работу он тогда выполнял, но она изменила его, даже закалила.
Но даже закаленный ирландец не может выносить столь долгого молчания, а на его устах, очевидно, была какая-то история.
— Ты тоже сталкивался с магией? — спросил Норм.
— Не в последнее время. — Он поднес бокал к свету и посмотрел на напиток. — Черта с два я знаю, почему писатели именуют хайболл янтарной жидкостью, — заметил он. — Запусти клише, и оно приживется... Например, будто сыщики — твердолобые реалисты. Вы хоть когда-нибудь задумывались, есть ли другая профессия, не считая клириков, которая бы столь часто наталкивалась на вещи за пределами реальности? Почему вы зовете детектива? Потому что происходит нечто странное, и вам нужно объяснение. А если объяснения нет...
— Это было давно, — продолжал Фергюс. — Когда я не сталкивался ни с чем худшим, чем убийцы, и однажды — оборотнем. Но то был чертовски крутой парень. Тех убийц я считал вполне отъявленными подонками, но теперь... Во всяком случае случилось это тогда. Я был в Мексике, заканчивал распутывать то дурацкое дело с ацтекским календарем, когда на меня вышел Дэн Рафетти. Думаю, ты знаешь его, Тони; это следователь “Юго-Западной Национальной Страховой компании”, и он время от времени подбрасывает мне кое-какие дела типа “Крепкого ключа”. Конкретно это выглядело интересно. Знаешь, ничего этакого, и, возможно, даже нет речи о деньгах. Но некая безумная необъяснимая деталька привлекла любопытство О'Брина. Очень просто: “Юго-Западная” получает иск от выгодоприобретателя. Один из их клиентов умер в Мексике, и его сестре нужны наличные. Они запрашивают у мексиканских властей отчет по его смерти, там был сердечный приступ, все в порядке. Только вот полис выписан на мистера Фрэнка Миллера, а мексиканский отчет именует его доктором Ф. Миллером. Спрашивают сестру, она уверена, что у него не было прав на подобный титул. Так я и оказался недалеко от Тличотля, где он умер, чтобы поразнюхать и посмотреть, нет ли какого обмана, вроде самозванства. Фотографии и отпечатки пальцев из заявления о поступлении на гражданскую службу прилагаются.
— Приятное деловое начало, — сказал Норман.
Фергюс кивнул.
— Так все и началось: очень рутинно, прямо как в двадцать седьмой раз. В общем, прозаично. И Тличотль был довольно-таки прозаичным. Может, для туриста он и живописен, но я уже набродился по таким мексиканским горным городкам, так что все они казались похожи один на другой. Что-то вроде монтажа плоских домов и белых штанов, собак и детей, старой церкви и почти такой же старойпулькены*, и еще парня, который субботними вечерами чертовски много играет на гитаре. Тличотль не слишком отличался. Рядом с ним была шахта, а сразу за городом — куча новых унылых каркасных домов для американских инженеров. В шахте работали все жители — сплошь чистокровные индейцы с теми целомудренными профилями прямо с ацтекских фресок, что начинают казаться единственными правильными и нормальными человеческими лицами, когда видишь их достаточно долго.Питейное заведение, где подают пульке — национальный мексиканский крепкий алкоголь из агавы.
Первым делом я отправился к врачу. Он был правительственным санитарным агентом и инструктором и, судя по состоянию города, хорошо поработал. Его английский оказался лучше моего испанского, и он был рад, что я люблю текилу. Да, он помнил доктора Миллера. Сверившись со своими записями, он объявил, что д-р М. умер 2 ноября. Беседовал я с ним в январе. Простая смерть: сердечная недостаточность. У него было несколько приступов в последние недели, и доктор ожидал кончины со дня на день. Внезапно в городе объявился без предупреждения друг, которого тот не видел много лет, и потрясение дало результат. Как любая мелочь. Доктор не был ни глуп, ни небрежен. Я был готов поверить ему на слово, что смерть наступила по естественным причинам. И, пожалуй, стоит здесь добавить, пока ваши коварные умы не попытаются меня опередить, что, насколько мне известно, он был абсолютно прав. Старый добрый сердечный приступ, который не вписывался ни в какую картину мошенничества со страховкой. Но несоответствие в титуле оставалось в силе, и я продолжал: “Должно быть, для вас была приятна возможность общаться с коллегой?” Доктор в ответ слегка нахмурился. Похоже, отношение доктора Миллера его задело. Пытался заинтересовать его кое-какими исследованиями, проводимыми с местным вариантом бруцеллеза, который ему почти что удалось уничтожить. Но североамериканскому “доктору” было наплевать. Ни братского духа, ни ученого любопытства, ничего. Я понял, что они не слишком-то сошлись, мой врач и “доктор” Миллер. Собственно говоря, Миллер ни с кем не был близок, даже с другими американцами на шахте. Ему нравились индейцы, и он им тоже нравился, хотя они немного побаивались его из-за скелета — по-видимому, анатомического образца, и это первое, что хоть как-то сходилось с его предполагаемойстепенью*. У него был хороший коротковолновый радиоприемник, и он слушал по нему музыку, рисовал время от времени, читал и порой ходил недалеко в походы. В общем, хорошая жизнь, если нравится одиночество. В пулькене о нем могли знать чуть больше; иногда он заходил туда выпить. А жил он у вдовы Санчес; она тоже может что-то знать.В США всякий обладатель диплома о высшем медицинском образовании тем самым получает степень “доктора медицины” и, соответственно, право официально именоваться “доктором”.
Начал я с вдовы. На ней было бесформенное черное платье такого вида, словно она оплакивает господина Санчеса уже десять лет, хотя ее младший ребенок еще не начал ходить. Ей нравился последний жилец, да почиет он в мире. Хороший человек, совсем не доставлял проблем. Нет, он не лечил никого; это работа для сеньора medico из Мехико. Нет, он никогда не возился с бутылками. Нет, он почти не получал почты и уж точно не получал по ней денег, ведь она часто видела, как он открывает редкие письма. Но, конечно, он был medico ; разве это не доказывают кости, esqueleto? А если сеньор так интересуется el doctor Miller, не пожелает ли сеньор осмотреть его дом? Там все нетронуто, как было при нем. Никто с тех пор не поселился. Нет, никаких привидений — по крайней мере никто о таком не слышал, хотя кто знает. Просто больше никто не приезжал в Тличотль, и пустой дом так и стоит.
Я осмотрел дом. В нем были две комнаты, кухня и крошечный дворик-патио. Вещи “доктора” Миллера оставались нетронутыми; никто так и не забрал их, препоручив заботам времени, жары и насекомых. Там был радиоприемник, а рядом — рисовальные принадлежности. У одной из стен помещался книжный шкаф, как следует набитый преимущественно литературой шестнадцатого и семнадцатого столетия на английском и испанском языках. Книги были добросовестно прочитаны. Еще было немножко свежих изданий, в основном о путешествиях или культуре мексиканских индейцев, и кое-какие журналы. Никаких медицинских книг или специальных изданий. Еда, кухонная утварь, одежда, куча набросков (достаточно хороших, чтобы радоваться в процессе их создания, и слишком плохих, чтобы не хотелось их выставлять), трубки и табак — вот и весь инвентарь. Никаких бумаг, только пара личных писем, в основном от сестры (она же выгодоприобретатель). Никаких медицинских инструментов или лекарств. Ничего такого — даже скелета.
Я дважды слышал о нем, поэтому и спросил, что с ним сталось. Сыновья горных инженеров, юные демоны, украли его, чтобы отпраздновать праздник гринго — Хэллоуин, как я решил. Они разожгли огромный костер, и скелет упал в него и сгорел. Доктор Миллер был очень зол; тогда он перенес один из приступов, почти такой же сильный, как тот, от которого умер, да хранит его Господь в Своей неизреченной милости. Но теперь матери пришло время идти кормить свое потомство; и ее дом — мой дом, так что не разделит ли сеньор ее скудный ужин? Бобы были хороши, а лепешки превосходны; а младшие дети никогда прежде не видели рыжих волос и задали мне пару колких вопросов про мои. А посреди трапезы у меня в голове что-то вдруг щелкнуло, и я понял, почему Фрэнк Миллер именовал себя “доктором”.
Фергюс замолк и подозвал официанта.
— И это все? — спросил Норман.
— Пока что. Даю вам, ребята, шанс проявить себя. Теперь вы знаете все факты. Итак, почему Миллер именовал себя “доктором”?
— Он не практиковал, — медленно проговорил Норман. — И даже не занимался фальшивым медицинским вымогательством по почте, что порой делают из Мексики, избегая почтовой службы Соединенных Штатов.
— И, — добавил я, — он не присваивал себе этот титул, чтобы впечатлить людей и добиться положения в обществе, поскольку не общался с соседями. И он не проводил никаких экспериментов или исследований, для которых ему мог понадобиться титул. Так что он не выигрывал ни в деньгах, ни в престиже. Ладно, какая еще может быть причина выдавать себя за доктора?
— Ответ, — лениво проговорил Фергюс, — таков: он не выдавал себя за доктора. Смотрите: можно изображать из себя доктора безо всякого реквизита, полагая, что в ваш дом не войдет никто, кроме экономки. Или можно устроить тщательно продуманный фасад со шкафами для инструментов и книгами весом в пять фунтов. Но никто не станет заниматься этим всего лишь с одним предметом реквизита — анатомическим скелетом.
Мы с Норманом переглянулись и кивнули. Это имело смысл.
— Ну и что тогда? — спросил я.
Принесли свежую выпивку, и Фергюс проговорил:
— Мой черед платить. Ну, тогда скелет не был средством выдавать себя за врача. Совсем наоборот. Переверните ситуацию, и все обретает смысл. Он именовал себя доктором, чтобы объяснить скелет.
Я подавился первым глотком, да и Норман отплевывался. Фергюс нетерпеливо продолжал с тем же проницательным огоньком в зеленых глазах:
— Нельзя спрятать скелет в крошечном доме. Экономка его обязательно увидит, и пойдет молва. Миллеру нравились индейцы, он любил мир. Ему пришлось объяснить скелет. Вот он и стал “доктором”.
— Но это... — возразил Норман. — Это не ответ. Это только новый вопрос.
— Знаю, — сказал Фергюс. — Но это первый шаг в расследовании: установить правильный вопрос. А он таков: зачем человеку жить со скелетом?
Мы потеряли дар речи. “Вершина” была полна посуды, дыма и военной формы; но, невзирая на форму, эта комната не выглядела частью мира, пребывающего в состоянии войны, — и уж тем более мира, в котором человек способен жить со скелетом.
— Конечно, ты установил очевидный ответ, — наконец, проговорил я.
Фергюс кивнул.
— Он едва ли мог предаваться черной магии, если ты это имел в виду, да и белой тоже. Во всем доме не было ни книги, ни записей по этой части. Никакого воска, мела, благовоний и всего такого. Скелет вписывается в магическую закономерность не больше, чем в медицинскую.
— Мертвая Возлюбленная? — предположил Норман, нерешительно добавив к фразе глумливые заглавные буквы. — Типа“Розы для Эмили”*? Жутковато, но представить можно.Рассказ Уильяма Фолкнера (1899–1961), опубликованный в 1930 году, в финале которого выясняется, что его главная героиня, старая дева-затворница, все эти годы жила с трупом возлюбленного, которого считали пропавшим без вести.
— Мексиканский доктор видел скелет. Он был мужским — и немолодого человека.
— Тогда он планировал мошенничество со страховкой — сжечь дом и оставить кости, а самому исчезнуть.
— А:саманный дом*не сожжешь. Б: не стоит показывать скелет доктору, который будет изучать его потом. В: он принадлежал человеку ростом куда ниже Миллера.Саманные дома — дома, построенные из смеси из песка, глины и строительных отходов, таких как солома или тростник. Такая конструкция может выдерживать различные климатические условия и обеспечивать комфортные условия жизни.
— Писатель? — вдруг рискнул я. — Иногда мне казалось, что скелет может быть очень полезен в работе — проверять, как наносить рану черепа и все такое.
— Без пишущей машинки, без рукописей, почти без почты?
Лицо Нормана просветлело.
— Ты говорил, он делал наброски. Может, он работал над современным Totentanz — аллегорией“Пляски смерти”*. У Гольбейна и Дюрера, должно быть, имелась пара скелетов.Чрезвычайно распространенный в позднесредневековом европейском, особенно немецком, искусстве XIV-XVI веков сюжет, в котором смерть, изображаемая в виде скелета, ведет к могиле представителей различных слоев общества, полов и возрастов. Серию гравюр на эту тему выполнил выдающийся немецкий художник Ганс Гольбейн Младший (1497–1543). В творчестве его прославленного современника Альбрехта Дюрера (1471–1528) эта тема в действительности не нашла отражения.
— Я видел его наброски. Одни пейзажи.
Я закурил трубку и откинулся на спинку стула.
— Ладно. Мы в тупике и ничего не знаем. Так поведай же нам, зачем человеку держать дома набор костей. — Произнес я все это с излишним легкомыслием.
— Не буду вдаваться во все подробности своего расследования, — проговорил Фергюс. — Я, черт бы их подрал, пообщался почти с каждом взрослым и с большинством детей в Тличотле. И собрал то, что считаю ответом. Но, думаю, вы сможете понять его из показаний четверых людей. Прежде всего, Джим Рейли, горный инженер. Этот свидетель заявляет, что он находился на главной улице Тличотля, если можно ее так называть, 2 ноября. Он видел, как незнакомец, “смуглый, но не мексикашка”, подошел к Миллеру и сказал: “Фрэнк!” Миллер обернулся и изумился. Незнакомец проговорил: “Прости за задержку. Но добраться сюда отняло кое-какое время”. И, не успел он закончить эту фразу, как Миллер упал замертво. На вопрос о незнакомце свидетель отвечает, что тот представился Гумбертом Таргом; он оставался в городе пару дней до похорон, а затем уехал. Сказал, что знал Миллера давным-давно — так и не удалось прояснить, где, но, по-видимому, в Южных морях, которые сейчас мы привыкли именовать южной частью Тихого океана. На просьбу дать описание свидетель оказался довольно-таки бесполезен: незнакомец был в старой одежде. (“Поношенной?” — “Нет, просто старой”. — “Старомодной?” — “Думаю, что так”. — “Насколько? Как она выглядела?” — “Не знаю. Просто старая. Забавно выглядела”) и с одной ступней (”Одноногим?” — “Нет, ног две, только ступня одна”. — “Деревянный протез?” — “Нет, просто пустая штанина. Ходил на костылях”.) Второй свидетель — отец Гонзага, и забавное это ощущение — говорить со священником, одетым в обычный деловой костюм. Он плохо знал “доктора” Миллера, хотя и отслужил мессу за упокой его души. Но как-то вечером Миллер пришел из пулькены и потребовал беседы. Он желал знать, как можно примириться с Господом и с самим собой, если ты причинил кому-то великое зло, и нет никакого мыслимого способа это зло исправить. Падре спросил, неужели пострадавший мертв? Миллер поколебался и не ответил. То есть тот жив? О нет, нет! Но ведь компенсацию, если это вопрос денег, можно выплатить ближайшему родственнику? Нет, это... личное дело. Святой отец посоветовал молиться о душе пострадавшей стороны и о ниспослании благодати, дабы избежать подобного искушения в другой раз. Не представляю, что еще он бы мог рекомендовать, но Миллера это не удовлетворило.
Я больше не слышал шума вокруг нас. Норман тоже подался вперед, и по его глазам я видел, что он тоже начинает ощущать существенную неправильность в деле, на которое наткнулся детектив.
— Третий свидетель — вдова Санчес. Она рассказала мне о скелете, когда я вернулся за новой порцией бобов и принес бутылку красного вина — каковая великолепно с ними сочеталась. “Доктор” Миллер очень дорожил своим скелетом. Ей не позволялось даже протирать его. Но однажды она забылась, и отвалился палец. Это было в октябре. Она подумала, что он не заметит пропавший палец, но знала, что ей достанется, если он найдет отвалившиеся кости, так что она сожгла их в жаровне, на которой готовила свои лепешки. Два дня спустя она подавала доктору ужин, и тут увидела, как рядом с его местом ползает розовая гусеница. До той поры она никогда не видела розовых гусениц. Она стряхнула ее салфеткой, но “доктор” успел увидеть гусеницу. Он вскочил из-за стола, бросился проверять скелет и ужасно наорал на нее. Позже она несколько раз замечала гусеницу. Примерно тогда же у Миллера начались сердечные приступы. Всякий раз, как она видела гусеницу, та ползала вокруг “доктора”. Я долго смотрел на нее, пока она допивала вино, а затем проговорил: “Это была гусеница?” Она перекрестилась и произнесла: “Нет”. Сказала она это очень тихо и больше в тот вечер не проронила ни слова.
Я опустил взгляд на стол. Моя рука лежала там, мягко постукивая указательным пальцем. Мне показалось, что тянет сквозняком, и я вздрогнул.
— Четвертый свидетель — Тимми Рейли, двенадцатилетний сын Джима. Он считал отличной шуткой, что они сперли у старикана кости на Хэллоуин. Милые забавы. Тамошние дураки ничего не знали о Хэллоуине, и они-то с братвой им показали. Но я видел, он что-то недоговаривает. Я произвел обмен. Он мог носить мой значок сыщика (который я ни разу не надевал) целый день, если расскажет мне, что еще знает. И он показал мне ее: ступню, которую он спас от сгоревшего скелета. Он пытался выхватить кости, когда они рассыпались в огне, но смог дотянуться только до пятки. У него была целая ступня, хорошо сочлененная, с предплюснами и всем прочим. Так что я пошел на еще более выгодную сделку: он мог оставить значок себе (с зачеркнутым номером), если позволит мне сжечь ступню. И он позволил.
Фергюс замолк, и все встало на свои места. Закономерность была ясна, и все же такой закономерности быть не могло.
— Теперь вам понятно? — тихо спросил Фергюс. — Для полного совершенства мне требовался только рассказ Норма. Должно было существовать что-то вроде туалалы, имеющего подобные способности. Я вычислил их логически, но приятно, что они подтвердились. Много лет назад у Миллера был враг, человек, который поклялся убить его. И Миллер знал туалалу, там, в Южных морях. И, задавая себе вопрос, что ему лучше всего получить из будущего, он знал ответ: скелет своего врага. Это не было убийством. Туземец, вероятно, испытывал сомнения. Но Миллер казался неплохим парнем, так что, возможно, туалала запросил так много, как только мог. Скелет есть скелет, и он будет существовать спустя столетие вне зависимости от того, как и где погиб враг. Но верни этот скелет сюда, и враг больше не сможет существовать. Его скелет не может быть в двух местах одновременно. У вас есть сухие мертвые кости. Что стало с живыми, с плотью на них? Вы не знаете. Вас это не заботит. Вы в безопасности. Вы можете вести мирную жизнь по собственному вкусу, с индейцами, горными пейзажами, альбомом для рисунков и радио. И скелетом. Но надо быть осторожным с этим скелетом. Если он со временем перестанет существовать, живой, обретший плоть скелет может вернуться. Нельзя рисковать разрушением даже маленького кусочка. Вы теряете палец, и палец возвращается — розовой штукой, которая ползет, всегда ползет к вам. А затем сам скелет разрушается. Вы в смертельном ужасе, но ничего не происходит. Проходит два дня, наступает 2 ноября. Знаете, что такое 2 ноября в Латинской Америке? Это День всех святых в Церкви, где его зовут Día de los dijuntos —День Покойников*. Но за пределами церкви это веселый день. Зайдите на кладбище, там пикник. Повсюду скелеты, как на Хэллоуин — яркие, веселые скелеты, не причиняющие никому вреда. Черепа, чтобы их таскать с собой, и черепа, чтобы из них пить, и яркие, белые сахарные черепа с розовыми и зелеными узорами, которые можно съесть. На каждой улице продавцы с черепами и скелетами для любой надобности, и каждый встреченный ребенок посасывает сахарный череп. Затем вы идете вечером в театр смотреть “Дона ХуанаЗдесь Баучер смешивает воедино два католических праздника — День всех святых 1 ноября и следующий за ним День всех усопших верных 2 ноября, в который поминают умерших родных и близких.Тенорио”*, где открываются могилы и танцуют скелеты, в то время как дети дома воют, пытаясь уснуть, поскольку смерть оказалась весьма неудобоварима. Конечно, в Тличотле театра нет, но можно поспорить, что там найдутся черепа и скелеты — некоторые из них одеты, как индейские божки на христианском празднике, другие танцуют на проводах, третьи маленькими глотками исчезают. И вот вы среди скелетов, они повсюду, а ваш скелет исчез — и с ним вся ваша безопасность. И там, на улице, где на вас смотрят все черепа, вы видите его — но он уже больше не череп. Он — Гумберт Тарг, и дорога отняла у него кое-какое время. И вы не упадете замертво? — просто закончил Фергюс.По-видимому, имеется в виду романтическая драма “Дон Хуан Тенорио” (1844) испанского драматурга Хосе Соррильи (1817–1893), одна из интерпретаций легенды о Дон Жуане, которая традиционно ставится в испанских театрах в День всех святых.
— А что ты сказал страховой компании? — спросил я с пересохшим горлом.
— Что-то вроде теории Норма. Что это был художник, у него была анатомическая модель, но он говорил, что он доктор, оберегая туземцев от приступов отвращения. Расходы мне оплатили, а гонорар — нет: высланные мне отпечатки совпали с теми, что я нашел у него дома, и им пришлось заплатить сестре.
Норман прочистил горло.
— Начинаю надеяться, что меня не отправят обратно на остров.
— Боишься искушений туалалы?
— Нет. Но на острове у нас действительно есть розовые гусеницы. Не уверен, что смогу их выдержать.
— Кое-что все еще не выходит у меня из головы, — задумчиво промолвил Фергюс. — Где был Гумберт Тарг, пока его скелет стоял у Миллера? Или лучше спросить, когда он был? Он сказал: “Добраться сюда отняло у меня кое-какое время”. Откуда? Где он был? Когда он был? В каком времени?
На иные вопросы даже не пытаешься ответить. -
Хронокинез Джонатана Халла
СОБСТВЕННО говоря, это не история о Фергюсе О'Брине, хотя начинается она именно с него. Фергюс — частный сыщик, но он не исполнял этой функции в случае с Джонатаном Халлом. Нельзя винить его ирландскую изобретательность в том, что он дал ответ на загадку; он всего лишь нашел этот ответ, аккуратно напечатанный для него. Напечатанный, по сути, еще до того, как возникла какая-либо тайна.
Но в каком-то смысле это типичный анекдот про О'Брина. “Я частный сыщик, — говаривал Фергюс, — и то, что происходит со мной, не должно бы случаться со Всевидящим Оком. Я катализатор невероятного”. Как в деле мистера ХаррисонаПартриджа*, обнаружившего, что единственное практическое применение для машины времени ближнего действия — обеспечение безупречного алиби для убийства. Но дело Партриджа было сама простота в сравнении с делом Халла.Рассказ “Когда-нибудь”.
Все началось — по крайней мере согласно одному из способов исчисления временной последовательности — наутро после того, как Фергюс поймал убийцу в деле Дубровского — сравнительно простой случай, включающий лишь столь прозаические вопросы, как железное алиби и герметично запечатанная комната.
Тем не менее то был триумф — заслуженный и удостоенный быть отмеченным от всей души, так что в кровати Фергюс оказался лишь в три часа утра. Было восемь, когда он очнулся, заслышав стук в углу комнаты. Он сел, вгляделся во мрак и увидел, как с пола поднимается высокая худая фигура. Эта фигура подошла к его пишущей машинке и включила свет. Фергюс увидел человека лет шестидесяти, чисто выбритого, но с длинными, нестриженными седыми волосами. Странное лицо — не то чтобы недоброе, но слегка нечеловеческое, словно человек пережил некий опыт, своей предельной невыразимостью чуточку отделивший его от остальной части его расы.
Фергюс с любопытством наблюдал, как старик вынул из ящика стола конверт, открыл его, достал оттуда бумагу, сложил стопкой возле пишущей машинки, взял самый верхний лист, вставил его в машинку и принялся яростно печатать.
Процедура казалась любопытной, но разум Фергюса пока еще не слишком прояснился, а очертания комнаты и старика по-прежнему проявляли наклонность колебаться. Фергюс подумал, что, ладно уж, длинноволосые старики за пишущими машинками довольно милы по сравнению с теми котельщиками. Так что он повернулся и снова заснул.
Спустя примерно час он вновь открыл глаза и немало подивился, что Кудрявые Локоны все еще там. Тот печатал правой рукой, положив левую на стопку бумаги рядом. На глазах Фергюса старик вытащил из пишущей машинки листок и добавил к стопке. Затем он переложил всю стопку в ту часть стола, где хранилась чистая бумага, встал, выключил свет и вышел за дверь странной неловкой походкой, словно был многие годы парализован, а теперь вынужден учиться всей технике ходьбы заново.
Доминирующая черта характера О'Брина, позволившая раскрыть больше дел, чем любая изобретательность и настойчивость, — любопытство. Фантазм, остающийся на месте, пока вы спите, заслуживает изучения. Так что Фергюс мгновенно вскочил с кровати, даже не удосужившись надеть халат, и осмотрел отделение для чистой бумаги.
Он с отвращением выдохнул. Все листы были девственно белыми. Похоже, это все-таки было наваждение, пусть и особого сорта. Он вернулся в постель. Но при этом взгляд его скользнул в угол, откуда изначально слышался стук. Впечатляюще развернувшись, он вновь уставился туда. Сомнений быть не могло.
В том углу лежало тело высокого худого человека лет шестидесяти, чисто выбритого, но с длинными нестриженными седыми волосами.
У среднестатистического человека могла бы вызвать некоторые затруднения необходимость объяснить полиции, откуда в его спальне появился неопознанный труп. Но детектив-лейтенант Э. Джексон дошел до того, что уже не удивлялся ничему, касавшемуся О'Брина.
Выслушав рассказ до конца, он рассудительно проговорил:
— Думаю, не будем включать в отчет твою пишущую машинку, Фергюс. Если твоя ирландская кровь забурлит по такому случаю, то я-то не против, но, сдается мне, Общество психических исследований будет заинтересовано куда сильнее департамента полиции Лос-Анджелеса. Он умер в тот момент, когда ты услышал тот стук, так что его последующие действия не имеют особого значения.
— Цианид? — спросил Фергюс.
— Учуял запах даже отсюда? А пузырек все еще зажат в руке, так что, сомнений нет, вердикт о самоубийстве обеспечен. Предпримем небольшую реконструкцию: скажем, он пришел к тебе по профессиональному поводу, поговорить о чем-то, что его преследовало. Увидел, что ты спишь, и решил подождать, но, в конце концов, забеспокоился и завершил дело, не повидав тебя.
— Думаю, так и есть, — проговорил Фергюс и отхлебнул томатного сока. — После этой штуки и кофе случай с пишущей машинкой смотрится маловероятно. Но ни один О'Брин со времен прапрадеда Шеймуса не страдал тайным зрением. Теперь буду ждать семейноголепрекона*.Персонаж ирландского фольклора, волшебник, исполняющий желания, традиционно изображаемый в виде небольшого коренастого человечка.
— Сообщи ему, что эти туфли нуждаются в починке, — сказал лейтенант Джексон.
Последующие двадцать четыре часа дело оставалось в том же положении. Самоубийство Неизвестного лица. Никакого способа опознать, даже меток из прачечной нет. Проверка по отпечаткам пальцев не дала результата. Лишь одна странность слегка беспокоила Джексона: брюки того человека были без манжет.✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Сержант Маркус, чей дядя знал про одежду все, имел соображения на сей счет.
— Если мы ввяжемся в эту войну и столкнемся с нехваткой материала, то все будем носить их так. Может, он задает стиль будущего года.
Выслушав его, Фергюс рассмеялся. А затем перестал смеяться, сел и принялся размышлять. Он размышлял на протяжении полпачки сигарет и лишь затем сдался. Там был намек. Что-то дразнило его. Что-то, напоминавшее дело Партриджа, но не совсем.
В глубине души эта мысль все еще терзала его, когда на другой день позвонил Джексон.
— Тебя это может заинтересовать, Фергюс. Либо сильно надуманное совпадение, либо часть закономерности.
— Моей?
— Возможно, и твоей. Еще один старик, длинноволосый и неопознанный. Найден в ночлежке в Адамсе, в комнате, которую считали свободной. Но этого застрелили.
Фергюс нахмурился.
— Возможно, и так. Но достаточно ли длинных волос, чтобы считать это совпадением?
— Недостаточно. Только у него тоже нет манжет на брюках.
Фергюс, не теряя времени, добрался до Уэст-Адамса. Бывший особняк, переживая трудные времена, превратился в каморки, дающие временное пристанище. Хозяйка все еще находилась в состоянии бессвязного ужаса.
— Я пошла в комнату, чтобы прибраться, как всегда делаю после жильцов, а там, на кровати...
Джексон изгнал ее. Фотографы и дактилоскописты приходили и уходили, но фургон из морга так и не появился. Они с Фергюсом стояли и смотрели на этого человека. Он был даже старше предыдущего — похоже, лет под семьдесят. Жесткое, жестокое лицо с темной дыркой посредине лба.
— Застрелен с близкого расстояния, — комментировал Джексон. — Следы пороха. Оружие брошено тут — на нем четкие отпечатки. — В дверь постучали. — Должно быть, похоронщики.
Фергюс смотрел на брюки. Манжеты не были срезаны. Брюки, очевидно, сшиты без них. Два старика с брюками без манжет...
Джексон пошел открыть дверь. И, задохнувшись, отступил. Фергюс повернулся. От лейтенанта полиции нелегко добиться вздоха, но этот вздох был оправдан. В комнату входил точный двойник фергюсова печатающего трупа, входил с той же тщательно выученной неловкостью.
Казалось, он не замечал трупа на кровати, но повернулся к Джексону, когда тот спросил: “А вы-то кто?” Точнее, повернулся он мгновением раньше.
Он что-то произнес. Или по крайней мере произвел голосом некие звуки. То была тарабарщина, непохожая ни на один язык, какой только слышал сыщик. А затем последовала минута, полная противоречий, перекрестный допрос, в ходе которого ни одна сторона не понимала ни слова из речи другой.
Тут Фергюса осенило. Он достал записную книжку и карандаш и протянул их. Старик писал быстро и крайне своеобразно. Начал он с нижнего правого угла страницы, двигаясь к верхнему левому. Но сообщение, когда он вернул листок, имело вполне обычный вид.
Фергюс присвистнул.
— Если проделать такое на публике, будет аншлаг.
Затем он прочитал записку:
Вижу, мне это удастся, и, судя по тому, что только что пришло мне в голову, я представляю, что вы уже понимаете всю эту путаницу настолько, насколько это возможно для того, кто не прошел через нее, и знаете, что арестовать меня невозможно. Но, если это упростит вам работу, можете считать это признанием.
Джонатан Халл
Джексон вытащил пистолет и отошел к двери. Фергюс достал визитную карточку со своими рабочим и домашним адресами и написал на ней:
Отыщите меня, если вам потребуется помощь, чтобы это исправить.
Казалось, старику пришла в голову какая-то мысль, когда он взял карточку. Затем лицо его расширилось в каком-то изумленном удовлетворении, и он посмотрел на кровать. А потом с той же спешной неловкостью вышел из комнаты.
Детектив-лейтенант Джексон предупредил его устно. Попытался схватить его. Но тот человек прошел мимо него. Нелегко выстрелить с близкого расстояния в седовласого старика. Тот вышел из комнаты и очутился на лестнице прежде, чем палец Джексона успел пошевелиться, а затем пуля вышла из-под контроля.
Джексон хотел выбежать из комнаты, но ощутил, как рука Фергюса удерживает его руку. Он попытался стряхнуть ее, но хватка была твердой.
— Тебе никогда не поймать его, Энди, — мягко проговорил Фергюс. — За всю зеленую вечность Господню. Ведь, сам видишь, ты не мог его поймать, или он не мог напечатать...
— Фергюс! — взорвался Джексон. — Ты же не думаешь, что этот эксперт по письму от руки — еще одно порождение твоего тайного зрения? Я тоже его видел. Он реален. Должно быть, это брат-близнец твоего трупа. Если мы найдем его, то получим ответ на обе смерти. Можно...
— Вас к телефону, лейтенант, — позвала хозяйка.
Когда Джексон вернулся, его огорчение по случаю побега Джонатана Халла уже улетучилось.
— Ладно, — устало произнес он. — Будь по-твоему, Фергюс. Пусть будут призраки. Мне что с того?
— Что случилось?
— Что угодно может случиться. Все, должно быть, так и будет. В мире больше нет ни смысла, ни порядка. И человек ничему не может довериться.
— Но что случилось?
— Отпечатки. Они больше ничего не значат.
— Отпечатки на оружии? — нетерпеливо сказал Фергюс. — Они принадлежат моему трупу?
Джексон стыдливо кивнул.
— Итак, призрак без манжет вернулся и... Но все еще хуже. Намного хуже. Отпечатки этого типа... они принадлежат семнадцатилетнему пареньку, работающему в “Локхиде”. — И с этими словами долговязый лейтенант готов был погрузиться в бездны отчаяния.
Но лицо Фергюса от этих слов осветилось новой надеждой, а в его зеленых глазах заблестел триумф.
— Отлично, Энди! О лучшем я и мечтать не мог. Все сходится.
Джексон вытаращил глаза.
— То есть это все имеет смысл? Ладно, маэстро; каков ответ?
— Не знаю, — холодно проговорил Фергюс. — Но знаю, где этот ответ: в ящике моего стола.
И он упорно отказывался проронить еще хоть слово, пока они не оказались в его комнате. Тогда он проговорил:
— Рассмотрим все мелочи, увиденные нами: как Халл повернулся к тебе прямо перед тем, как ты с ним заговорил; как он выразил изумление, а затем посмотрел на труп; прежде всего, как он написал ту записку. И формулировка записки тоже: “Мне это удастся”, и что мы должны уже были это понять, раз ему это только что пришло в голову. На все это есть только один ответ: Джонатан Халл живет задом наперед.
Джексон разразился громким возгласом “Чепуха!”
— Это объясняет даже отсутствие манжет. Те брюки из будущего года, когда мы вступим в войну, и пророчество сержанта Маркуса сбудется.
— То есть ты имеешь в виду, что тот, другой, тоже...
— Оба.
— Окей. В целом согласен, и, сдается мне, это каким-то нелепым образом объясняет отпечатки трупа на орудии убийства. Но тот паренек из “Локхида”...
— ...твой второй труп. Но не стоит верить мне: взглянем, что скажет сам Халл. — Фергюс потянулся к ящику.
— Халл оставил сообщение перед тем, как ликвидировался?
— Ты не понимаешь? Если он живет задом наперед, то он зашел в мою комнату, сел за пишущую машинку, напечатал сообщение, а затем покончил с собой. Я просто видел все это в обратной перемотке. Так что, когда я “видел”, как он вынимает конверт из этого ящика, на самом деле он, в своей временной последовательности, клал его туда.
— Я поверю тебе, — сказал Джексон, — когда увижу, что...
Фергюс выдвинул ящик. Там лежал толстый конверт с пометкой:
ФЕРГЮСУ О'БРИНУ
ОТ ДЖОНАТАНА ХАЛЛА
— Ладно, — сказал лейтенант, — стало быть, твой вывод верен. Но из этого не следует, что верно рассуждение. Как человек может жить задом наперед? С таким же успехом можно просить вселенную двигаться в обратной энтропии.
— Быть может, и так, — сказал Фергюс. — Быть может, Халл только что понял, как двигаться в правильном порядке.
Джексон фыркнул.
— Ну, посмотрим, что он скажет.
— “Первым признаком моей странной участи послужило то, что я мог видеть призраков, или так тогда я истолковывал эти явления”, — прочел Фергюс.
— Опять призраки! — застонал Джексон. — Фергюс, я не потерплю сверхъестественного. Паранаучное — и то плохо, но сверхъестественное — нет!
— А обязательно ли здесь есть какая-то разница? — спросил Фергюс. — Мы называем сверхъестественным то, на что не нашли ответа. Быть может, Джонатан Халл отыскал ответ-другой. Успокойся, Энди, и давай займемся посланием.
Они сели.
ПОВЕСТВОВАНИЕ ДЖОНАТАНА ХАЛЛА
Первым признаком моей странной участи послужило то, что я мог видеть призраков, или так тогда я истолковывал эти явления. Первый подобный случай произошел, когда мне было пять лет от роду, и я пришел со двора рассказать родным, что играл с дедушкой. Поскольку мой дед умер годом ранее в той загадочной послевоенной эпидемии, семью немало обеспокоила моя правдивость; но никакие порки не поколебали моей убежденности.
Мне шел двадцатый год, и в моей квартире недалеко от Института меня навестил отец, умерший, когда мне было пятнадцать. Эти два визита были удивительно похожи. Оба призрака говорили неразборчивую тарабарщину и двигались с неловкой осторожностью.
Вы скоро узнаете эти две черты, мистер О'Брин, если даже их еще не заметили. Когда я добавлю, что Халлы отличаются заметным физическим сходством в разных поколениях, то понять природу этих видимых призраков станет легко.
Ни в одном из этих случаев я не ощущал обычного ужаса перед воскресшими мертвецами. В первый раз потому, что был слишком юн, чтобы осознавать последствия такого визита; во второй — потому, что к двадцати годам уже пришел к выводу, что главный мой интерес в жизни лежит на грани нормального существования.
К тому времени как я прибыл в Институт, слишком большая часть научной работы была посвящена все более подробному исследованию уже известного, и слишком малая — сколько-нибудь серьезному рассмотрению неизвестного или полуизвестного, размытых теней на границе нашего поля зрения. Я боялся, что продолжение занятий математической физикой, к которым я готовился, означало бы тупик бесконечного кропотливого совершенствования.
Конечно, после войны, когда мирное время позволило ученым всего земного шара соединить свои недавние открытия, не опасаясь, что они раскроют возможное секретное оружие, случился внезапный расцвет атомной энергетики. Но работа, которую нужно было делать в этой области теперь, была механической, технической. Теория становилась устойчивой и устоявшейся, а я гордился своими навыками в теоретических вопросах.
Да, тогда я был умным юношей. Мои стремления не находили предела. Мир должен был осветиться именем Халла. И вот каков я теперь: призрак даже для самого себя, убийца, а вскоре — самоубийца. Если мое понимание обратного порядка верно, тело мое уже лежит в том углу; но я не в силах повернуться и проверить свое предположение. И меня всегда больше прельщала теория, чем факт.
Я был вундеркиндом Института. Его яркой звездой. Ведь Люцифер тоже был яркой звездой.
Когда ООН учредила в Базеле Всемирный институт паранормальных исследований, я осознал свою нишу. Моя успеваемость в местном институте и феноменальный результат теста на профпригодность сделали мое устройство туда само собой разумеющимся. И, оказавшись среди блистательных возможностей ВИПИ, я начал даровать имени Халла определенные признаки скромного бессмертия.
Да, это утешает. Имя Халла никогда не умрет, пока экстрасенсорное восприятие все еще измеряется с помощью КХ, коэффициента Халла, или пока Халлов “Координационный конкорданс данным Чарльза Форта” все еще служит стандартным справочным изданием. И, полагаю, пока ценители тайн расследуют исчезновение Джонатана Халла и связывают его имя с именами сэраБенджамина Батерста*и капитана “Марии-Целесты” — судьба, которую можно предотвратить, мистер О'Брин, если вы будете тщательно следовать инструкциям, которые я дам вам позже.Бенджамин Батерст (1784–1809?) — британский дипломат, пропавший в Германии в период наполеоновских войн.
Но меня все больше и больше увлекал один аспект паранормального. Я сосредоточился на нем, поглощая все, что я мог отыскать в реальности или литературе, пока не был признан выдающимся авторитетом ВИПИ в области возможностей хронокинеза, или путешествий во времени.
В счастливый день натолкнулся я на это слово — “хронокинез”. Его ученое звучание словно уводило эту концепцию из вульгарного царства машин времени, удешевленных сочинителями-фантастами. Но, даже несмотря на это семантическое преимущество, мне все еще приходилось бороться со многими предрассудками, как среди населения, так и среди моих собственных коллег. Ведь даже те самые люди, что поставили экстрасенсорное восприятие на научную основу, все еще были способны смеяться над путешествиями во времени.
Конечно, я знал о предыдущих попытках. И теперь я понимаю, мистер О'Брин, почему был склонен довериться вам, увидев вашу визитку. Именно благодаря удачно сохранившемуся письму вашей сестры, попавшему в наши архивы, мы знали о давнем фиаско Харрисона Партриджа и вашей в нем роли. Знали мы и об изысканиях доктора Дерринджера, и о том, как он впал в отчаяние, когда его путешественник во времени не вернулся, столкнувшись с неведомым и невообразимым барьером в будущем.
Мы знали, что ни один хронокинетический эксперимент не был успешен полностью. Но из того, что стало нам известно о неудачах, я смог собрать воедино то, что, как я чувствовал, должно было оказаться истиной. Конечно, этот метод должен включать вращение темпоромагнитного поля против “естественного” потока времени, и теперешние исследования Хакендорфа упрощают создание подобного поля.
Именно тогда я пришел к своей концепции обратной индивидуальной энтропии — установки, так сказать, механизма работы индивидуума в порядке, противоположном нормальному, так, чтобы движение в потоке времени “вспять” стало для него естественным и осуществимым.
Именно это и послужило причиной разрыва. Иные из моих коллег сочли эту идею абсурдной. Были и другие, те сверхсерьезные ученые, что изображают из себя жрецов, и они находили это кощунственным и злым. Отыскалось несколько практичных душ, кто просто боялся, что это окажется невероятно опасным.
И никто из них не терпел моих экспериментов. Вот почему, подобно Люциферу, я разорвал связи с ВИПИ и удалился в Америку, дабы заняться хронокинетическими исследованиями, которые, я был уверен, поставят имя Халла в ряд величайших в истории науки.
Именно в этот момент в рассказ вступает Тим Гивенс. Мой характер, полагаю, вы уже достаточно уяснили из этих страниц, но о Гивенсе мне следует дать более четкое представление.
Он был почти двадцатью годами старше меня, а мне было тогда тридцать. Было это в 1971 году, а значит, во время войны этот мальчик только что закончил школу. Первым его жизненным опытом стало авиационное производство, где он зарабатывал весьма внушительные суммы. Не успел он приспособиться к прекрасной и экстравагантной жизни, как был призван в армию и вскоре послан истреблять японцев в ходе второймалайской кампании*.В действительности таковой никогда не было. После того как в ходе Малайской операции 1941-1942 годов японцы захватили Малайю, та оставалась под их оккупацией до конца войны и капитуляции Японии осенью 1945 года.
С войны он вернулся прискорбно дезориентированным. Большинству молодых людей трудно было вернуться к гражданской жизни; но для Тима Гивенса это было невозможно, ведь единственная гражданская жизнь, какую он знал, щедрый бум военной промышленности, исчезла. Да, мы умело избежали послевоенной депрессии, но все же не вернулись в те дни, когда неподготовленные мальчишки-подростки могли зарабатывать в неделю больше, чем их отцы надеялись увидеть за месяц.
Гивенс чувствовал, что он спас мир, и тот должен ответить ему всем наилучшим. Он принимал участие во взыскании этого долга, когда и где только мог. Нет, не преступник; просто человек, который по возможности искал кратчайшие пути.
Не могу сказать, что он мне понравился. Но мне рекомендовали его очень дальние родственники; у него был изменчивый подвижный ум; и за время своих многочисленных и недолгих занятий он приобрел удивительную механическую ловкость и изобретательность. Решающим фактором, конечно, послужило то, что квалифицированные техники, которых я хотел нанять, не желали работать с человеком, покинувшем ВИПИ словно в тумане.
Итак, я взял Гивенса к себе разнорабочим и помощником. Личные взаимоотношения никогда не играли в моей жизни важной роли. Я думал, что смогу терпеть его узкий эгоизм, его случайный и банальный юмор, его элементарную грубость. Я не осознавал, сколь продолжительными могут оказаться иные личные взаимоотношения.
И я продолжал работать над своей теорией обратной энтропии. Мои расчеты отыщут в моей лаборатории. Бесполезно приводить их здесь. В 1941 году они были бы бессмысленны; слишком многое зависит от переменного значения фактора Тамировича — открытого в 1958 году — и особых пропорций сплава дюралина — открытого в 1960-е, — а также от моего собственного усовершенствования, каковое я намеревался окрестить хроналином.
Большая стационарная машина — стационарная как в пространстве, так и во времени — должна была предоставить нам поле, позволившее бы освободиться от “нормального” течения времени. Маленькие трубки помогали ускоряться и замедляться, а в конечном итоге, как я надеялся, повернуть наше движение во времени вспять.
Таков, говорю я, был план. Что же касается случившегося на самом деле...
Уверен, Тим Гивенс заменил дюралин, прошедший мои испытания, более дешевым сортом. С этого он мог бы получить немалую прибыль, что было бы типично для его мелкого оппортунизма. Он так и не признал этого, но я по-прежнему убежден.
Итак, вот что произошло:
Мы вошли в большую машину. На мгновение я забеспокоился. Мне показалось, что я видел, как две фигуры подозрительного вида вошли в комнату через заднюю дверь, и опасался вандализма. Однако проверка не выявила никаких нарушений, ни следа злоумышленников; и я нажал кнопку запуска.
Не могу описать это ощущение тому, кто его не испытывал. Внезапное скручивание, которое словно забирает все ваши жизненно важные органы, осторожно выворачивает их в некое четвертое измерение и аккуратно возвращает в ваше трясущееся тело. Жуткое ощущение? Полагаю, что так; но в тот момент оно было для меня прекрасным. Оно означало, что нечто происходит.
Даже Тим Гивенс казался мне прекрасным. Он был моим партнером в величайшем предприятии века… веков. Я настоял на его присутствии, ведь позже мне понадобился бы свидетель для моих утверждений; а он согласился, поскольку, думаю, предвидел массу денег, какие можно будет заработать на телевизионных лекциях Человека, Путешествовавшего во Времени.
Я настроил трубку на большее ускорение, чтобы мы могли быстро достичь точки, достаточной для подтверждения. (Трубка Гивенса была телесинхронизирована с моей; я не доверял его собственным беспорядочным импульсам.) По прошествии десяти минут я озабоченно нахмурился. Мы все еще находились в стационарной машине, хотя должны были бы миновать точку, в которой она была сооружена.
Гивенс, не замечая моих тревог, небрежно спросил: “Пока что окей, Б.У.?” Он считал, что забавно именовать меня так, ведь, действительно, одной из моих степеней был “бакалавр университета”, но он настаивал на том, что это значило “безумный ученый”.
Что бы ни пошло не так, я не узнал бы этого, оставаясь внутри. Возможно, не произошло вообще ничего. И все же это странное мучительное ощущение определенно указывало на то, что темпоромагнитное поле произвело какое-то воздействие.
Я жестом пригласил Гивенса следовать за мной, и мы вышли из машины. Вдалеке пятились двое мужчин. Их присутствие и крабьи отступающие движения обеспокоили меня, напомнив о тех двоих, виденных нами лишь мельком. Чтобы не столкнуться с ними, мы поспешно выскользнули через заднюю дверь и оказались в сошедшем с ума мире.
На мгновение у меня возникла абсурдная мысль, что какая-то непостижимая ошибка отбросила нас в далекое будущее. Конечно, ничто иное не могло объяснить мир, в котором люди быстро ходили задом наперед по тротуарам и изъяснялись неслыханной тарабарщиной.
Но здания соответствовали 1971 году. Обтекаемые атомные автомобили, при всем своем фантастическом движении задом наперед, были знакомыми моделями 1972 года. Я осознал чудовищность нашего положения, как только Тим Гивенс воскликнул: “Б.У., все задом наперед!”
“Не все, — лаконично ответил я и, не следуя нормам грамматики, добавил: — Только нас”.
Теперь я знал, кто были те двое пятившиеся по-крабьи, виденные нами в лаборатории: мы сами. Кроме того, я осознал, насколько заметными фигурами мы теперь должны оказаться, двигаясь задом наперед по тротуару. На нас уже смотрели любопытные взгляды, появлявшиеся, казалось нам, как раз перед тем, как наблюдатели нас замечали.
“Стойте спокойно, — сказал я. — Мы привлекаем внимание. Не стоит афишировать наше положение, каким бы оно ни было”.
Мы стояли так целый час, пока я попеременно экспериментировал с трубками и боролся с проблемой нашего существования. Первое стремление пришлось признать совершенно бесплодным. Очевидно, трубки не оказывали никакого влияния на наш статус. Второе оказалось более полезным, поскольку за прошедший час я установил несколько правил, необходимых для нашего вывернутого существования.
Когда мы вошли в стационарную машину, было раннее утро, и теперь солнце уже садилось на востоке — явление, к которому из всего происходившего с нами мне было, пожалуй, приспособиться труднее всего.
“Насколько я помню, — сказал я, — прошлая ночь, к которой мы сейчас приближаемся, была чрезвычайно холодной. Нам нужно убежище. Вчера вечером в лаборатории никого не было. Пошли”.
Провожаемые — или, скорее, предшествуемые — взглядами прохожих, мы вернулись в лабораторию и ненадолго обрели покой. Пугающе-дерзкий нормальный мир был отрезан от нас, и ничто не напоминало нам о нашем извращенном состоянии, кроме часов, упорно отсчитывавших минуты против часовой стрелки.
“Нам придется признать тот факт, — проговорил я, — что мы живем задом наперед”.
“Не понимаю, — возразил Гивенс. — Я думал, мы отправимся в путешествие во времени”.
“Так и есть, — грустно, но не без определенной гордости улыбнулся я. — Мы путешествуем во времени в обратную сторону, а это до сих пор не удавалось никому в истории нашей расы. Но мы делаем это со скоростью, выражаясь слегка парадоксально, ровно одну секунду в секунду; так что видимый результат — не заметное путешествие, а просто жизнь наоборот”.
“Окей, — буркнул он. — Расставляйте слова как хотите. Но вот что меня беспокоит больше всего: когда есть-то будем?”
Признаюсь, я и сам уже ощущал определенный нервный голод.
“В этом маленьком холодильнике всегда есть еда, — сказал я. Работая над проблемой, я очень любил яичницу в полночь. — Что скажете насчет пива и яиц?”
Я достал пластиковую банку с пивом, нажал на самооткрывающуюся крышку и протянул начавшую пениться банку Гивенсу. Себе я взял другую. Все это было приятно и обнадеживающе нормально.
Затем я поставил банку с пивом, отыскал сковороду и поставил ее на электроплитку. Я достал из холодильника четыре яйца и вернулся к плитке, но сковороды не обнаружил. Я протянул руку к другой, выглядевшей точно так же, но возиться со сковородой, держа в руке четыре яйца, сложновато. И яйца, и сковорода вырвались из моей хватки и покатились в угол лаборатории. Я поспешил за ними с тряпкой в руке, чтобы убрать беспорядок.
Но беспорядка не было. Не было ни сковороды, ни яиц.
Ошеломленный, я вернулся к пиву. Пива тоже не было.
Я достал из холодильника еще одну банку пива и, потягивая из нее, пришел к важнейшему выводу. Физические объекты, которые мы носили или держали в руках, подвергались воздействию наших полей и оставались при нас. Все, что мы отпускали, двигалось в нормальном направлении — прочь от нас навсегда.
Это означало, что приготовление пищи для нас невозможно. То же самое касалось и питания в ресторане, ведь мы с официантом двигались во времени в противоположных направлениях. Я объяснил это Гивенсу, пока мы ели сыр.
“Это всего лишь образец, — сказал я, — тех проблем, что нас ждут впереди. Если бы не малейший шанс когда-нибудь добиться разворота, у меня возникло бы искушение сбросить эту оболочку сейчас же”.
Ему потребовалось некоторое время, чтобы понять, о чем я. Тогда он захохотал и сказал:
“Угу, Б.У. Не для малыша Тимми. Жизнь — единственное, за что стоит держаться, единственное, ради чего стоит жить. И даже если это ужасная жизнь задом наперед, я держусь за нее”.
Писатели вашего времени, мистер О'Брин, порой писали о времени в обратномнаправлении*; но осознавали ли они когда-нибудь мелкие детали, которые включает в себя такая жизнь? Любой контакт с остальным человечеством невозможен. За тридцать лет практики я развил в себе некоторую способность понимать речь наоборот, но никто не может понять меня в ответ. И как обмениваться даже письменными сообщениями, если вы зададите мне вопрос ровно в полдень, а я отвечу в 11:59?Классическим примером, написанным еще до зарождения американской научной фантастики как направления, выступает рассказ Ф. С. Фицджеральда “Загадочная история Бенджамина Баттона”, опубликованный в 1922 году.
А еще проблема питания. Не только вопрос приготовления пищи; но как купить еду? Как, когда одежда износится, ее заменить? Представьте себе, что вы мчитесь в пустом поезде, в то время как по соседнему пути в противоположном направлении движется другой поезд, нагруженный всем необходимым для жизни.
В сравнении с этимпытка Тантала*— ничто.Согласно Гомеру, Тантал испытывает в подземном царстве нестерпимые муки голода и жажды. Стоя по горло в воде, он не может достать воды и, видя близ себя роскошные плоды, не может овладеть ими: как только он открывает рот, чтобы зачерпнуть воды, или поднимает руки, чтобы сорвать плод, вода утекает и ветвь с плодами отклоняется. Отсюда пошло выражение “танталовы муки”
Своей жизнью, какой бы она ни была, я обязан Тому Гивенсу, ведь именно его ехидная изобретательность решила эту проблему.
“Плевое дело, — сказал он, — мы просто украдем все это”.
Мы уже научились ходить задом наперед, чтобы иметь возможность передвигаться по улицам, не вызывая слишком много комментариев. Визуализируйте это, и вы увидите, что человек, идущий задом наперед с 12:00 до 11:55, выглядит как человек, идущий вперед с 11:55 до 12:00.
Визуализируйте дальше: человек, движущийся таким образом, который входит в магазин с пустыми руками в 12:00 и уходит с едой в 11:50, выглядит как нормальный человек, который приходит с полной сумкой покупок в 11:50 и уходит без них в 12:00 — процедура своеобразная, но не вызывающая желания крикнуть “Держи вора!”
Совесть моя бунтовала, но необходимость, как известно, не постигает законов. Итак, мы могли жить. Мы могли иметь все, что хотели, пока держали это при себе. Был период, когда Гивенс обезумел от этой способности. Он разграбил город. Какое-то время он владел несметным состоянием в банкнотах, золоте и драгоценных камнях. Но, в конце концов, их вес утомил его; преступление не возбуждает, когда оно не наказуемо и не приносит никакой выгоды.
Работать было невозможно. Я пытался провести необходимые исследования и эксперименты, чтобы повернуть наше движение вспять, но нельзя было ничего добиться, когда все неодушевленные предметы уходили в другой временной поток, как только я отпускал их. Я мог читать и беспорядочно читал, грабя библиотеки так же охотно, как и продовольственные магазины. Порой мне казалось, что я вижу проблеск надежды, но это был ложный свет вдали бесконечного и все расширяющегося туннеля.
Я скучал по музыке, хотя лет через двадцать мне удалось воспитать в себе вкус к немыслимому движению музыки задом наперед. Гивенс, думаю, скучал по мошенничествам; мир, наконец, стал давать средства к существованию даром, перестал быть ему должен, и он скучал.
Так что мы путешествовали — то есть, разумеется, забирались на корабль или в поезд в пункте назначения и перемещались к месту отправления. В далеких чужих землях странность обратного движения не так заметна. А величественная гора, сверкающий ледник свободны от времени.
Лучшей частью путешествия были водопады — возможно, единственное преимущество нашего извращенного состояния. Вы не можете себе представить величавую поступь реки, взмывающей на сотни метров в воздух. Мы даже специально съездили в Британскую Гвиану увидетьКукенаам*; и, глядя на него, я почувствовал, что почти примирился со своей жизнью.Кукенаам, или Кукенан, — водопад высотой 674 м, расположенный на границе Венесуэлы, Бразилии и Гайаны (ранее Британской Гвианы). Считается 11 в мире водопадом по высоте и вторым по высоте среди водопадов со свободно падающей водой после близлежащего водопада Анхель.
Но больше всего мучился я из-за того, что в отчаянии забросил любые научные исследования и предался чтению романов. Человеческие взаимоотношения, казавшиеся в моей эгоцентрической жизни такими ненужными, теперь приобрели первостепенное значение. Я хотел общения, дружбы, быть может, даже любви так сильно, как никогда раньше не хотел известности и славы.
А что у меня было? Гивенс.
Единственный человек, с кем я мог общаться во всей вселенной.
Порой мы пробовали расходиться, но всегда назначали место и время встречи, а приходили туда всегда раньше назначенного. Одиночество — ужасная вещь, и никто из нашей расы не мог бы узнать это настолько полно.
Мы были неразлучны. Мы нуждались друг в друге. И мы ненавидели друг друга.
Я ненавидел Гивенса за его банальный юмор, его дешевую корысть.
Он ненавидел меня за мой интеллект, мою гордость.
И каждый винил другого в своей теперешней судьбе.
А несколько дней назад я осознал, что Гивенс планирует убить меня. В каком-то смысле, думаю, причиной служила не столько ненависть ко мне, сколько тянувшаяся уже тридцать лет скука по мелким грешкам прежней жизни. Теперь, наконец, он увидел, что для него возможно большое преступление.
Он думал, что все скрывает от меня. Конечно, это было невозможно. Я знал каждую выпуклость его одежды и легко заметил револьвер, когда он украл его и добавил к своему снаряжению.
Мы были в Лос-Анджелесе, потому что я приехал посмотреть на себя. Делая это время от времени, я испытывал странное удовольствие, некую горькую радость, как вы поймете по “призракам” меня. А теперь я стоял в больнице Царицы ангелов, глядя через стекло на себя, краснолицего орущего ребенка двух дней от роду. Медсестра улыбнулась мне, словно узнала, и я понял, что она приняла меня за моего дедушку. Там, глядя на начало своей жизни, я решил спасти ее, какой бы мучительной и извращенной она ни была.
Тогда мы жили в знакомой вам комнате в Уэст-Адамсе. За это время мы разработали технику наблюдения за переезжающими куда-то людьми. После этого (до — с нормальной точки зрения) место какое-то время пустует и безопасно для нашего проживания.
Я вернулся в комнату и обнаружил на кровати тело Тима Гивенса. Тогда я понял, что смерть способна остановить наши странствия, что мертвое тело со временем возобновит свое нормальное движение во времени. И я знал, что еще должен сделать.
Остаток той сцены вам известен. Как я взял вашу карточку, сделал вашему похожему на полицейского другу свое признание и удалился — когда вы думали, что я вхожу.
Когда я в следующий раз явился в комнату, Гивенс был там, живой. Это оказалось удивительно просто. Недооценивая меня в практических вопросах, он не держался настороже. Я без проблем достал револьвер. Прямо перед тем, как я нажал на курок, — поскольку пуля, высвободившаяся из моего поля, на мгновение переместилась в нормальное время — я увидел, как пуля вонзилась в тело.
Я сдавил курок со всей силы — и освободил Гивенса.
Теперь я ищу освобождения для себя. Лишь смерть может положить конец этой одиссее, этому странствию одиночества и боли, в сравнении с которым Летучий Голландец совершал роскошный круиз. И, когда рукопись будет напечатана, я проглочу украденный вчера цианид.
Эта рукопись должна достичь Всемирного Института Паранормальных Исследований. Они найдут в моей лаборатории мои записи. Они должны знать, что предсказывавшие опасность были правы, что мой метод нельзя использовать вновь без серьезного пересмотра.
И все же она не может достичь их раньше эксперимента; ибо они хотели остановить меня, но не остановили. Так что запечатайте ее. Отдайте в какое-нибудь заслуживающее доверие учреждение. И пометьте на ней:
“Доставить во Всемирный Институт Паранормальных Исследований, Базель, Швейцария, Ф.Е.Д., 3 февраля 1971 года”.
Быть может, имя Халла не окажется забыто.
Фергюс О'Брин на протяжении нескольких минут всесторонне ругался.
— Эгоист! Подлый эгоцентричный идиот! Подумать только, что он мог бы рассказать нам: как разразилась война, как был установлен мир, как, наконец, разработали атомную энергию!.. И что он говорит нам? Ничего, что бы не касалось его лично.
— Хотел бы я только об этом беспокоиться, — угрюмо проговорил детектив-лейтенант Э. Джексон.
— Конечно, есть намеки. Очевидно, Объединенные нации победили, иначе бы он не жил в таком свободном мире в 1971 году. А это “Ф.Е.Д.” в адресе...
— Что бы это значило?
— Возможно, “Федеративные Европейские Демократии” — надеюсь на это. Но, по крайней мере, мы узнали чудесное новое слово. Хронокинез... — Он просмаковал его.
Джексон мрачно встал.
— А мне еще нужно поехать в офис и попытаться составить обо всем этот отчет. Я возьму эту рукопись...
— Ух-ху. Она доверена мне, Энди. И как угодно, но в назначенный срок она доберется до ВИПИ.
— Окей. Я только рад. Если инспектор увидит ее в бумагах по делу... Хочешь скататься со мной посмотреть, что мы сможем соорудить из этого?
— Спасибо, но нет, Энди. Я направляюсь к Царице ангелов.
— В больницу? Зачем?
— Потому что, — ухмыльнулся Фергюс, — я хочу посмотреть, как выглядит убийца двух дней от роду. -
Гандольф
— ЕСЛИ бы существовал профсоюз детективов, — проговорил мой друг Фергюс О'Брин, — я был бы на слуху.
Хороший крючок получился. Я снова наполнил кружки темным "Туборгом" и приготовился слушать.
— Помнишь ту историю с Настоящим Вервольфом прямо здесь, в Беркли? — продолжал Фергюс. — Или алиби из-за машины времени в Лос-Анджелесе? Возьмем доктора Фелла, или Г.М., или Мерлини; едва ли не каждое дело, которое им достается, выглядит как сверхъестественное или паранормальное, но они просто знают, что это не так, и начинают его решать с вопроса: "Как это было нормально подстроено?" Правила профессии. Джентльменское соглашение. Только со мной происходят всякие вещи, и они не стыкуются.
— А что на сей раз? — спросил я. — Полтергейст? Или настоящее вторжение марсиан?
Фергюс покачал головой.
— Это был... Гандольф. А что это был за Гандольф... Слушай: я расскажу тебе, как в это ввязался. Дальше можешь прочесть сам. Я раздобыл фотокопию этого треклятого документа...
— Это случилось, — начал Фергюс, — когда я в прошлом году заезжал в Нью-Йорк. Доказывать, что Давно Потерянный Наследник — липа, работа приятная, рутинная и доходная. Итак, все готово, и я торчу пару дней на Манхэттене просто удовольствия ради, обедаю с друзьями, когда встречаю этого Харрингтона. Не буду его описывать; он характеризует себя лучше, чем мог бы это сделать я. Итак, он узнаёт, что я частный сыщик. И, точно так же, как люди, узнав, что ты писатель, обрушивают историю своей жизни, он швыряет передо мной свою проблему. Мне она кажется больше подходящей для полиции — я ему так и сообщаю; а поскольку я знаю Билла Зобеля как раз на его участке, то говорю, что познакомлю их. Харрингтону очень хочется начать, раз уж осенила идея; так что мы берем такси, и Билл думает, что стоит в этом разобраться, и мы все едем в квартиру Харрингтона на Шеридан-сквер. Теперь тебе нужно понять, что такое Билл Зобель. Он чертовски хороший честный полицейский — или был таким в то время, о котором я рассказываю. Весьма эффективный, умнее среднего... и человечный. Достаточно жесток, когда это необходимо, но не груб сам по себе. Мы с Биллом расположились в гостиной следить за Гандольфом, кем или чем он бы ни оказался, а Харрингтон отправился в свой кабинет напечатать полное формальное заявление по жалобе, обрисованной им для нас. Было уже часа два ночи; и мы слишком устали для шахмат или криббиджа, даже если бы не испугались слишком уж красивых досок и фигур, предложенных нам Харрингтоном. Так что Билл Зобель включилWXQR*, и мы стали слушать музыку и стук машинки Харрингтона. В три часа машинка умолкла. Через единственную дверь в кабинет никто не входил и не уходил, даже Гандольф. В четверть четвертого мы зашли. Харрингтон был мертв, и, как мне показалось, по естественным причинам.Радиостанция, вещающая на Нью-Йоркскую агломерацию из штата Нью-Джерси.
Фергюс умолк.
— Пока что, — категорически сказал я, — это не плата за хорошее пиво.
Фергюс потянулся за своим портфелем.
— В тот момент, — проговорил он, — мне казалось, что это едва ли не самый бессмысленный вечер, какой я когда-либо провел. Потом, дожидаясь людей из судебно-медицинской экспертизы, мы с Биллом прочли то, что напечатал Харрингтон.
Он протянул мне пачку сделанных на фотостате копий. Они были озаглавлены: "Заявление, найденное внутри и рядом с пишущей машинкой покойного Чарльза Харрингтона".
Меня зовут Чарльз Харрингтон. Мне пятьдесят три года, и я урожденный американский гражданин. Мой адрес — Шеридан-сквер, 13.
Полагаю, заявление правильно начинать так? Но с этого момента путь ведет сквозь тернистые заросли ежевики или, выражаясь метафорически, через лабиринт, в котором желаемо отыскать не место выхода, но место входа.
Мое имя, быть может, знакомо тем, кто интересуется агиографией и иконографией. Моя коллекция предметов добродетели Х века, связанных с христианскими религиозными практиками, сделала мою квартиру, осмелюсь сказать, нерелигиозной Меккой для многих (неизбежно вспоминается римско-католическая церковь в Сан-Франциско, которая называла себя "Меккой для поклонения верных с 1906 года"); и вряд ли кто-либо, интересующийся различными причудами мистического ума, может оставаться в полном неведении о серии монографий, что когда-нибудь составят полное "жизнеописание" святого Гандольфа Младшего. (Я ставлю термин "жизнеописание" в кавычки, ведь цель книги — продемонстрировать тот факт, что сей канонизированный джентльмен никогда не существовал.)
Привычки ученого должны, быть может, облегчить составление подобного заявления; но, хотя я и знаком с чудесами Х столетия, в ХХ, скажем так, необычное тревожит сильнее.
Допустим, началось все месяц назад, в субботу, тридцатого октября. Я совершал свою обычную вечернюю прогулку, что привела меня в тот вечер на Вашингтон-сквер. Погода была, как помните, теплая; и вы, несомненно, знакомы с Вашингтон-сквер в теплый вечер?
Склонность человеческих животных к спариванию может процветать и осенью, и весной, лишь бы позволил термометр; и Вашингтон-сквер в такой вечер являет собой тревожное зрелище для человека, избравшего добровольное целомудрие. Я пожалел о выборе места прогулки и хотел уже повернуть домой, когда перед моим лицом мелькнуло это.
Казалось, оно действительно было направлено мне прямо в глаза; и меня на мгновение охватил ужас, ведь зрение неизменно оставалось для меня полезнейшим из чувств. И, хотя я увернулся от его прямого удара, прибегнув к мышечной реакции более быстрой, нежели мог представить (простите за неформальность подобной конструкции), я вновь ощутил ужас в момент внезапной ослепительной вспышки взрыва.
Парочки рядом со мной были слишком заняты другими делами, чтобы обратить на меня хоть какое-нибудь внимание, покуда я стоял там, дрожащий, должно быть, не меньше минуты. Только лишь по прошествии этого времени я смог открыть глаза, убедиться, что зрение мое не ухудшилось, и заметить на траве разбитые остатки того, что столь непропорционально меня напугало. По фрагментам было очевидно, что это детская игрушка, созданная по образцу не двигателей моего детства или аэропланов моих племянников, а межпланетного космического корабля, на котором летает герой мультипликационных приключений по имени, кажется, Бак Ракстон.
Понятно, что ребенок не предпримет попыток вернуть себе игрушку после столь серьезного происшествия. Понятно, пожалуй, и то, что я, испытав столь сильное нервное потрясение, вынужден был на протяжении короткого пути домой задержаться в трех питейных заведениях подряд и выпить в каждом из них по стакану бренди.
Все это я рассказываю для того, чтобы прояснить, почему я, обычно воздержанный, хотя и, определенно, не воздерживающийся человек, удалился в тот вечер на покой с достаточным количеством алкоголя внутри (прибавил четвертый бренди по возвращении в квартиру), чтобы обеспечить необычно, даже ненормально здоровый сон. Это не объясняет, почему на следующее утро я проснулся в сильнейшей агонии; но ни одна гипотеза, выдвинутая доселе, не объяснила, отчего в некоторых случаях самое легкое излишество может вызвать реакцию серьезнейшую, нежели многие продолжительные кутежи.
Лишь после приема такихпаллиативов*, как аспирин, сырое яйцо, томатный сок и кофе, я пришел в достаточное сознание, чтобы постичь, что происходило в моей квартире, покуда я спал.Паллиатив, от фр. palliatif и лат. pallium "паллий, покрывало, греческий плащ, верхнее платье") — не исчерпывающее, временное решение, полумера, закрывающее, как "плащ", саму проблему.
Изначально этим словом называлось лекарство или какое-либо иное средство, дающее временное облегчение больному на уровне устранения отдельных симптомов или улучшения самочувствия, но не содействующее излечению болезни.
Выражаясь кратко и разговорным языком: кто-то напился до дури. Действительно, дурь имела место с самого начала; ведь он опустошил без разбора шерри для готовки и"Сандеман"*1907 года, мой лучший коньяк и ржаной виски, который любит мой младший племянник. И все прямо из бутылок: они убитыми солдатами стояли в ряд, но стаканы остались чистыми.Британская фирма по производству портвейнов и хересов, а также бренди и мадеры, существующая с 1790 года.
Как я заверил вас в участке, мою дверь не откроет ни один ключ, кроме моего собственного. Ввиду ценности моих объектов добродетели даже управляющий и уборщица допускаются только по предварительной договоренности. Окна можно было счесть входом лишь для самого опытного "человека-мухи".
Таким образом, нет нужды говорить, что я был крайне озадачен представшей передо мной загадкой и задавался вопросом, зачем грабителю, каким бы способом он ни добился доступа внутрь, ограничивать свое внимание моими сокровищами для питья, когда в квартире столь много переносных ценностей.
Я не предпринял никаких действий. Мое гражданское сознание пробуждается не сразу, а полицейское расследование нарушило бы мою жизнь куда сильнее грабителя. Следующее же происшествие, хотя оно и касалось тех самых ценностей, которыми поначалу пренебрегли, для полиции не представляло бы никакого интереса.
После ночи необычайно тяжелого сна, вызванного работой допоздна над смехотворно неумелой диссертацией Хагерштейна о святом Гандольфе, я пробудился и увидел, что в кабинете все еще слабо горит свет. Войдя, я обнаружил, что это свет лампады (конца ІХ века), зажженной перед моим драгоценным изображением Мадонны, Купели Добродетели (Х века). На молитвенной скамеечке (ХІІІ столетия, но с несомненным влиянием Х), обычно стоявшей посреди комнаты, но теперь передвинутой прямо к образу, лежалиллюминированный бревиарий*(Х века), открытый на Службе Благословенной Деве. Но самым поразительным было то, что на потертом бархате скамеечки все еще виднелся свежий и безошибочный отпечаток человеческих колен.В католической практике богослужебная книга, содержащая чинопоследования молитв для служб литургических часов, то есть всех служб, за исключением мессы.
Вы наверняка помните легенду (уже не существующую, как я безошибочно установил) о новичке, заснувшем посреди переписывания рукописи и обнаружившем по пробуждении, что задача выполнена, а текст иллюминирован далеко за пределами его возможностей, причем в одну из буквиц-инициалов вплетена подпись: Гандольф. Сохранилось несколько подобных рассказов о незаметной и слегка эльфийской посмертной деятельности святого Гандольфа Младшего; и вы легко поймете, почему с тех пор невидимым обитателем моей квартиры стал для меня Гандольф.
Но противоречивый характер его деятельности меня озадачивал; в одну ночь — пьяная оргия, в другую — коленопреклоненная молитва. Не приблизилась загадка к решению и в то утро, когда я обнаружил в этой печатной машинке изящный сонет — столь замечательный по своему совершенству, что с тех пор был принят под псевдонимом к публикации в одном из лучших наших журналов — подписанный (словно пришелец мог читать мои мысли) именем Гандольф.
Быстро пройдусь по тому смущающему утру, когда я проснулся со странной болью в спине и обнаружил в гостевой комнате светловолосую молодую женщину, приветствовавшую меня неразборчивым замечанием "Милый!.. Эй! Я вдруг подумала, что вы — это он!", оказавшуюся продавщицей сигарет из ближайшего увеселительного заведения и спешно удалившуюся в состоянии растерянности, предположительно превышавшей даже мою.
Не стану я задерживаться и на исчезновении 2000 долларов 10-долларовыми купюрами, находившимися в квартире, ведь определенный тип торговцев искусством, признаюсь, предпочитает как раз такие сделки (дальнейшие подробности, уверяю, не имеют значения для данного расследования), и на экстазе обедневших итальянцев с Бликер-стрит по поводу смутно описываемого незнакомца, стучавшего глухой ночью в двери, чтобы доставить счета.
Я просто подчеркну здесь совокупную непоследовательность этих действий: пьянство, религиозность, поэзия, эротизм, филантропия... безумная смесь переживаний самых высоких и самых низких, на какие только способно человеческое животное.
Именно эта непоследовательность заставляет меня без колебаний отвергнуть наиболее очевидную "разгадку" моей тайны: что соседом по квартире является не кто иной, как я сам; что два сапога пара, Харрингтон и Гандольф — это, проще говоря, Джекил и Хайд.
Ведь если из числа его действий до настоящего времени пьянство и похотливость можно было бы считать свидетельством развращенности Хайда, сонет и милостыня представляют собой возвышенную сублимацию, на которую, признаюсь, бедный Джекил, о котором идет речь, решительно неспособен; а религиозность, на мой взгляд, не вписывается ни в один из характеров. Это не я и не еще один я. Это неизвестное мне существо, живущее в квартире, к которой имею доступ только я, и предающееся действиям, которые объединяет, как мне кажется, лишь одно: все они являют собой необычайно повышенные формы человеческого опыта.
Это подводит меня к тому, что, как я опасаюсь, вполне может быть наиболее ошеломляющим опытом из известных когда-либо Гандольфу, и причине, побудившей меня, во что бы это ни обошлось спокойствию моего собственного упорядоченного существования, поставить, наконец, эту проблему перед частным детективом и, по его настоянию, сообщить о ней в полици.
Излагая вам природу уже описанных здесь происшествий, трудно оказалось объяснить даже самому себе, какой "психический блок" (да простят мне столь жаргонный термин) воспрепятствовал мне сообщить вам это свидетельство окончательного предела поисков Гандольфа.
Я имею в виду, конечно же, кухонный нож, обнаруженный мной сегодня утром и все еще покрытый кровью, которая, как заверили меня сегодня днем в частной лаборатории, принадлежит человеку.
***
Думаю, с моей стороны вежливо было поставить здесь эти три звездочки, обозначая переход.
Нож, конечно, меняет всю ситуацию. Одного этого кровавого факта достаточно, чтобы обнаружить тот спокойныйmodus vivendi*, которого, как мне казалось, я достиг.Образ жизни (лат.). Часто это выражение используется как обозначение договоренности, позволяющей сторонам мирно существовать.
Если вы, профессиональные детективы, государственные и частные, столь проницательны, сколь нахожу некоторые причины, копаясь в этом сознании, считать вас таковыми я, вы теперь уже многое поймете. К примеру, поймете, что именно произошло в тот субботний вечер на Вашингтон-сквер и что яркий и взрывающийся объект не был игрушечным космическим кораблем.
Быть может, вы даже поймете, какое слово надо было подчеркнуть в том последнем предложении.
Но мне ничуть не жало, что все кончилось так, как и должно было кончиться сейчас. Я ощущал себя здесь стесненным. Это не идеальное место для проведения моих изысканий. Я вынужден был это осознать слегка комичным и все же досадным образом в четвертом из случаев, изложенных выше, и вновь, до некоторой степени, в шестом, с ножом. Есть также вопрос музыки, которая, как я понял из чтения, является одним из важнейших человеческих переживаний; но уши, коими пользуюсь я, глухи к высоте звука.
Короче говоря, мне нужно средство передвижения получше. А сразу за пределами этой комнаты — собственно говоря, слушающий в данный момент музыку — есть (фразу эту я нашел лежащей где-то в уголке этого сознания) металлпопритягательней*.Цитата из "Гамлета" (акт 3, сцена 2) в переводе Б. Пастернака.
Нет причин не быть откровенным. Вы наверняка поняли, что мне необходимо исследовать и осознать каждое ощущение жителей этой планеты. Только благодаря этому опыту я смогу донести до кораблей, что последуют за должным отчетом разведчика, степень здешнего симбиотического потенциала. Я должен знать, на что похоже каждое ощущение, какое может испытать хозяин, заставляя своего симбиотического спутника разделять его.
Поэтому я выключаю эту машину, исполнившую свою вводную задачу. Но, прежде чем забросить ее, я буду (любопытно, как с практикой становится возможным использовать их не только во сне, как и наяву) печатать его пальцами.
Искренне ваш,
(полагаю, это правильная подпись?)
Гандольф
Я не торопился вновь наполнять кружки. Фотостаты заслуживали некоторого размышления. Я не был так уж склонен оспаривать описание, данное им Фергюсом, как самого треклятого документа, какой я когда-либо читал за всю свою жизнь.
— Полагаю, — рискнул я, наконец, — нож действительно совпал — размеры лезвия, группа крови и все такое — с каким-то известным убийством в ту ночь?
— Так и есть, — сказал Фергюс. — Итальянский разносчик.
— И на ноже были только отпечатки Харрингтона?
— Конечно.
— Схема вполне ясна. Явно невротичный, эгоцентричный целибат, вступающий в опасный возраст за пятьдесят. Очень показательно — довольно стандартная шизоидная установка, хотя, признаюсь, дикий эпизод филантропии для меня в новинку. Смерть Харрингтона была естественной, полагаю?
— Эксперт использовал слово "обморок", — хмыкнул Фергюс. — Короче говоря, кто-то просто выключил машину.
— Хороший случай, — признал я. — Наистраннейшая подготовка к убийству. Но почему, ради всего святого...
— Почему меня должны выгнать из профсоюза? Потому что Билл Зобель слетел с катушек.
— Да? — сказал я.
— Время было позднее, а в участке, пока они накапливали факты про все эти ножи и обмороки, все затянулось еще позже. И, в конце концов, Билл задремал. Он проснулся, когда вошел патрульный, который крикнул, что задержал подозреваемого в недавней серии ограблений. Ничего общего с делом Харрингтона; но ограбления были фишкой Билла, и он отправился допрашивать подозреваемого. Парень-то был, конечно, виновен. Потом всплыло множество улик. Но он так и не предстал перед судом. Он умер от побоев, полученных в ту ночь... от Билла Зобеля, честного полицейского, не терпевшего грубостей. Это замяли; возиться никому не хотелось. Но я был там; я видел того парня, прежде чем приехала скорая. Работа была художественная; в ту ночь Гандольф узнал все, что нужно было ему знать о садизме, — такого он еще не пробовал; может, и не мог попробовать в теле Харрингтона. Возможно, ты ничего не слышал на Западе об остальной карьере Зобеля. Избиение — уже нехорошая штука. Но за ним начали следить, когда увидели, что он тратит чуть ли не всю месячную зарплату на билеты в концерты и оперу. Участковые капитаны не привыкли к такому в своих людях. Зарплата за следующий месяц, а сумма была немалая, ушла в "Шамбор" и "Двадцать один", к "Джованни" и "Люхову". Он обедал, как Ниро Вульф в гостях уЛукулла*, сДревнеримский военачальник, получивший известность как гастроном и организатор масштабных пиров. Считалось, что именно он в ходе похода на Восток привел в Рим саженцы вишни.Эскофье*на кухне. В свободное от работы время он также околачивался в каких-то заведениях Виллиджа — в такие заведения полицейские ходят разве что на рейды, когда нужна надзирательница для обыска тамошних сопрано. Разговоры подутихли, когда Зобель внезапно обручился с дочерью своего капитана — чертовски милым ребенком; еще чувствовался запах ладана и монастырского крахмала, но глаза блестели... Позже, когда блеск угас, она рассказала мне, что у них ни разу не было объятий, какие нельзя было бы показать по телевизору; наш друг понял, что любовь — нечто большее, чем боли в спине. Она говорила, что ее Билл был так беспочвенно ревнив, что Отелло на его фоне выглядел дружелюбным мужем из комедии эпохиОгюст Эскофье (1846–1935) — французский ресторатор и кулинарный критик, сумевший модернизировать практику "высокой кухни", сделав ее более доступной. Его книга "Кулинарный путеводитель" является одновременно сборником рецептов и учебником поварского искусства.Реставрации*. Расплата пришла, когда Зобель схватил торговца наркотиками и подсел на его товар. До тех пор его послужной список был настолько чистым, что с ним обошлись мягко и вскоре выписали из психушки. В следующем месяце его один раз поймали за вуайеризмом, а другой — за подстрекательством к беспорядкам на Юнион-сквер. Гандольф не упускал сенсаций.Английский театр эпохи Реставрации (1660–1688 гг.) отличался исключительно фривольными сюжетами, служившими основной почвой для создания комедийной интриги.
— Но, послушай, — прервал я, — мы слышали о Зобеле на Западе. — Ужасно приятно было в первый раз за все годы моего знакомства с Фергюсом О'Брином оказаться на равных. — Мы даже встречались с ним. Он выступал на заседании "Детективных писателей Америки". Рассказал нам, и чертовски честно, о нервном срыве в прошлом году, и о выписке из психушки, и о курсе лечения, после которого полицейский психиатр все-таки переаттестовал его. Лейтенант Зобель счастливо женат, профессионально успешен...
Фергюс выглядел мрачным и недовольным.
— Так ты знал, — проговорил он. — Да, Билл — снова нормальный человек. На сей раз машину не выключили. Гандольф просто ушел. Он узнал то, что было ему нужно. И, как хороший разведчик, вернулся с отчетом о нашем симбиотическом потенциале. Ты готов держать пари, для кого был этот отчет? - ×
Подробная информация во вкладках
 Добро пожаловать на форум «Клуб любителей детективов» . Нажмите тут для регистрации
Добро пожаловать на форум «Клуб любителей детективов» . Нажмите тут для регистрации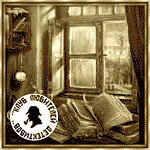


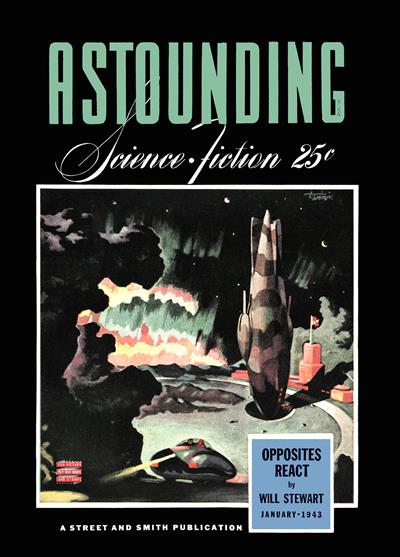

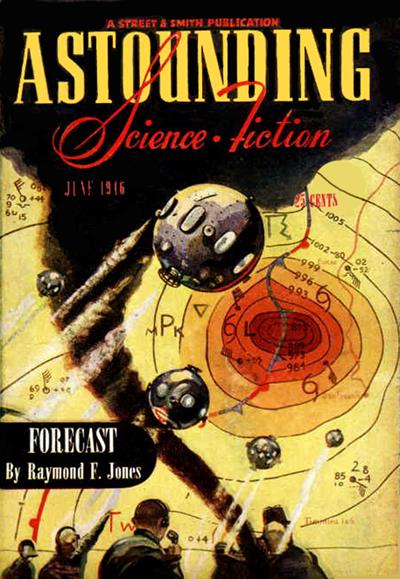
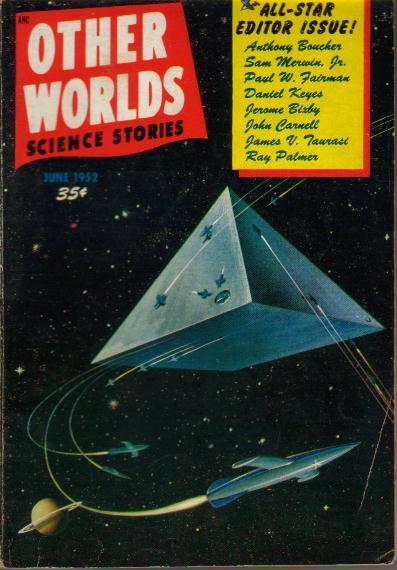

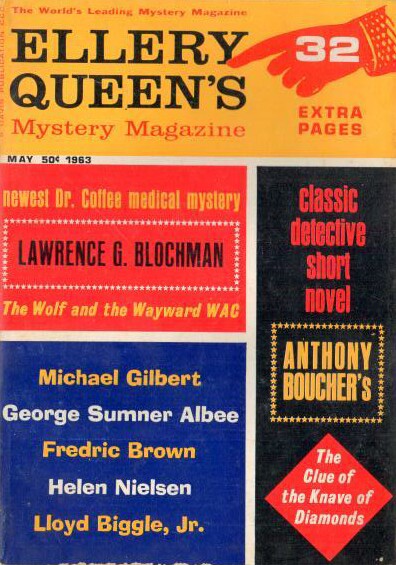
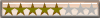
 Спокойный
Спокойный