Одним холодным январским днём 1889 года я сидел у огня в моём паддингтонском доме, совершенно измотанный за несколько часов деятельности столь напряжённой, что подобной я не знал с тех пор, как мы преследовали андаманского дикаря на Темзе. Я не двинулся с места, услышав звонок, и лишь на пятом повторении припомнил, что среди прочих неприятностей дня есть и то, что у служанки после полудня выходной. Набив трубку для оживления упавшего духа смесью “Аркадия”, я неохотно ответил на призыв.
Со смесью радости и опасения я увидел на ступеньках знакомую фигуру своего друга Шерлока Холмса. Хотя мне было приятно его видеть, я, тем не менее, опасался, что он может счесть меня, в нынешнем моём состоянии, прискорбно медлящим с ответом на приглашение в любую предстоящую игру. Но Холмс казался столь же бездеятельным, как я, и после обмена приветствиями всего лишь последовал за мной к огню, опустился в кресло напротив и с самым товарищеским видом раскурил свою пугающе закопчённую глиняную трубку.
— Лондон тупеет, — пожаловался Холмс, когда я совершил положенные обряды с танталом и газогеном, его свадебным подарком нам. — А тупость, мой дорогой Ватсон, это единственная невыносимая болезнь. Прошло больше двух месяцев с тех пор, как моё мнимое недомогание, столь вас обеспокоившее, позволило инспектору Мортону арестовать этого дьявола, мистера Кэлвертона Смита; и за всё это время на моём пути не возникло ни одной интересной проблемы. О, газеты, конечно же, нашли место тому жалкому делу с опалами Талиаферро, но и четырёхлетний ребёнок мог бы понять, что вором был альбинос-ласкар. — Он замолчал и с некоторым беспокойством посмотрел на меня. — Дорогой друг, надеюсь, вы не больны?
— Январский холод, — поспешил объяснить я. — Вот; это поможет нам обоим.
—
Ennui... — пробормотал Холмс. — У французов, Ватсон, есть бесценные слова. Подумайте, как они используют и наше слово для тоски, “сплин”... Чтобы описать моё состояние в данный момент, нужен язык моей бабушки. Конкретно выраженной благодарности правящего семейства Голландии вполне достаточно для удовлетворения моих скромных потребностей на многие годы; но разуму моему нужно дело. Я должен точить зубы, Ватсон, о любую кость, какую найду.
— Сегодня днём, — продолжал он, помолчав и сделав глоток, — я заходил в клуб “Диоген”, но Майкрофт занят столь секретной миссией, что не может намекнуть о её сути даже мне. Мне потребовалось всего лишь пять минут, чтобы определить по пеплу возле любимого кресла Майкрофта и пятну фиолетовых чернил на левом пальце его клерка, что поручение касается некоего высокопоставленного юного повесы, чью деятельность мне благоразумнее игнорировать. Так что я пришёл к вам, своему старому другу, в надежде, что ваша практика — надеюсь, неизменно растущая — могла породить какую-нибудь, пусть маленькую, но дразнящую разум проблему.
— Никаких проблем, — устало сказал я и добавил: — В моей практике.
— Если я не смогу найти что-нибудь стимулирующее, отвлекающее... — Его обычно резкий голос дрогнул, а палец решительно изобразил нажатие на шприц.
— Ради всего святого, Холмс! — взмолился я. — Вы же не вернётесь к этому?
Некоторое время он молча сидел, курил и улыбался. Затем небрежно спросил:
— Белый или гризли?
— Белый, — тут же ответил я и вскочил, воскликнув: — Холмс, это уж слишком! Я понимаю, что вам нужно что-нибудь стимулирующее, отвлекающее, как вы это называете; но вторгаться в частную жизнь друзей, шпионя за ними в самые укромные моменты, как самый мелкий агент...
Добродушный смех и взмах длинной тонкой руки прервали мою возмущённую речь.
— Ватсон, Ватсон, — сокрушался мой друг, качая головой. — Неужели вы так никогда и не поймёте, что я не практикую ни чёрную магию, ни мошенничество втихую? Если я обнаруживаю здорового молодого человека в состоянии полного истощения, пыль на его ладонях и коленях брюк, съехавший набок коврик и сдвинутую мебель, более того, когда этот человек морщится при моём случайном упоминании четырёхлетнего ребёнка, очевидно, что он проводил день, развлекая младенца, и, по крайней мере, часть этого времени, встав на четвереньки, изображал животное. Для того, кто знает ваш характер как я, Ватсон, столь же очевидно, что для вас ребёнок сочтёт наиболее подходящей роль медведя. Оставалось только спросить: “Белый или гризли?” Хотя, учитывая ваше пристрастие к рассказам об арктических приключениях, и этот ответ должен был быть очевиден. Увы, я, кажется, теряю чутьё.
— Но... — начал я.
— Знаю, — с некоторой резкостью перебил он. — Теперь всё выглядит очень просто — после того, как я объяснил. Узнать объяснение — это, я бы сказал, и есть нечто недостающее. Но я могу сделать вывод, что это ребёнок подруги вашей жены, поскольку не припоминаю среди ваших знакомых кого-то с маленькими детьми, и что ваша жена и мать ребёнка гуляли вместе. С учётом дня и часа, возможно, ходили на утреннее представление. А учитывая время года, на пантомиму, и это может указывать на то, что старшего ребёнка повели в театр, а этого, слишком юного, чтобы появляться на публике, оставили с услужливым мужем подруги.
— Холмс, — воскликнул я, — король Яков должен был познакомиться с вами, прежде чем писать свои труды про ведьм.
— Тихо, Ватсон, — запротестовал мой друг. — Это было всего лишь предположение. Но не составляет труда заключить из слабых криков, доносящихся со второго этажа, что упомянутый молодой человек пробудился и требует к себе внимания.
— Это, — объявил я Холмсу, одновременно прилагая все усилия, чтобы освежить сонного ребёнка, — мастер Элиас Уитни.
— А? Без сомнения, тёзка покойного директора богословского колледжа святого Георгия?
— Его племянник, — ответил я, вновь восхищаясь этим человеком и его знанием всех деталей жизни Англии. — Его мать, Кейт, близкий друг Мэри. Его отец... — Но профессиональная сдержанность заставила меня больше не говорить о его бедном отце, ведь я и не догадывался, что извращённая склонность, в то время вызывавшая у меня такое беспокойство как у врача, позднее вовлечёт меня в приключение, которое я уже где-то описал под именем “Человека с рассеченной губой”.
— Итак, молодой человек, — весело сказал Холмс.
Юный Элиас серьёзно изучил пронзительные глаза, ястребиные черты лица, твёрдые, но чувствительные губы моего друга, и вынес вердикт.
— Смешной дядя, — сказал он.
Я не мог сдержать улыбки, живо предвкушая, какое животное придётся для развлечения юного джентльмена изобразить Холмсу, но был разочарован в своих ожиданиях, поскольку Элиас, не обращая внимания на соблазны коврика, представлявшего собой полярный круг, устроился на пуфике у огня и потребовал:
— Расскажи.
Глаза Холмса блеснули.
— Он нашёл ваше слабое место, Ватсон, старина. Вы рассказчик по убеждению, в школе и взрослой жизни. Ну, если ему нужны животные, поведайте про наши похождения в Баскервиль-холле.
Я уже собирался возразить, что столь жуткое повествование не годится для юных ушей, но мальчик произнёс:
— Нет. Расскажи про великанов
[1].
— Он верно мыслит, — заметил Холмс. — Ваше шотландское происхождение, друг мой, неизбежно влечёт сказки про великанов.
— Он имеет в виду, — терпеливо разъяснил я, — полярного медведя, которого я имел честь изображать. Нет, Элиас, прости, но я не знаю сказок про белых медведей. Но я вспоминаю, что сам в детстве всегда любил сказки про волков. Не интересна ли тебе будет такая?
— Волк-великан? — предложил Элиас.
— Не уверен, но сильно сомневаюсь, что существует такой зверь, как полярный волк. Этот волк — самый обычный волк, какого можно встретить, по крайней мере, в сказках, на каждом углу. Он жил в глухом тёмном лесу...
— В лесу есть углы? — с интересом спросил Элиас.
Холмс наполнил из тантала свой стакан и откинулся в кресле.
— Прошу вас, продолжайте, Ватсон, — призвал он. — Я нахожу сказки особенно подходящими для вас, учитывая романтические нотки в ваших повествованиях о моих приключениях. Жажду увидеть вас за работой.
— Нет, — ответил я Элиасу. — В том лесу не было углов, а была только длинная извилистая тропка, ведшая от одного домика к другому. И в одном из домиков жила маленькая девочка, а звали её Красная Шапочка...
— Знаю про Шапку, — сказал Элиас.
Я чувствовал себя отвергнутым.
— Тогда ты хочешь другую сказку?
— Нет. Про Шапку. Расскажи про Шапку.
— Публика, — заметил Холмс, — всегда предпочитает истории, хорошо ей знакомые.
Я рассказал про “Шапку”. Поскольку эта история, возможно, знакома читателю по его собственному детству, я опущу детали, которые тогда изложил полностью, как их часто нам рассказывала старая няня в те счастливые солнечные дни, когда мы с Гарри были детьми. Я поведал про первую встречу с волком, про гнусные действия волка по отношению к бабушке, рассказал о жуткой беседе Красной Шапочки с переодетым волком, как она постепенно осознаёт, что находится в опасности, и описал появление дровосека (которому придал, признаюсь, некоторые наиболее заметные черты облика моего друга), уничтожение волка и восстановление бабушки — деталь, которую, насколько я понимаю, часто опускают в современных версиях.
Польщённый пристальным вниманием юного Элиаса, я был не только польщён, но и озадачен столь же пристальным вниманием Шерлока Холмса. По мере того, как я вёл рассказ, его глаза разгорались, он следил за каждым моим словом и вскоре, невольно потянувшись к отсутствующей персидской комнатной туфле, вытащил мешочек с табаком, раскурил трубку и окружил себя теми ядовитыми облаками, что неразрывно связаны для меня с последней стадией решения задачи.
Когда я закончил, он вскочил и нетерпеливо стал расхаживать по комнате.
— Готово, Ватсон! — воскликнул он, и в его голосе послышалась прежняя живость. — Элиас! — Он указал длинным пальцем на заметно вздрогнувшего ребёнка. — Хочешь знать правду о Красной Шапочке?
— Правду о Шапке? — тупо повторил ребёнок.
— Какими тупицами могут быть люди! — восклицал Холмс, обращаясь сам к себе. — Повторять эту историю на протяжении поколений и так и не осознать её смысл! Но в словах этого ребёнка был намёк на правду. Волк-великан... Вы же видите, Ватсон?
— Вижу что? — еле выговорил я.
— Тут есть два существенных момента. Сосредоточьтесь на них, Ватсон. Во-первых, Красная Шапочка замечала волчий облик “бабушки” постепенно, едва ли не поочерёдно одну черту за другой. Во-вторых, после того, как волка убили, появилась бабушка.
— Но, дорогой Холмс...
— Вы всё ещё не понимаете? Тогда слушайте. — Его взор блеснул. — Конечно, это был волк-великан — волк-оборотень, вервольф, имеющий волчий облик злобный человек-людоед. И этим человеком была... бабушка! Это очевидно. Красная Шапочка не взглянула и сразу увидела, что в постели волк. Нет, она замечала появление волчих черт мало-помалу. Очевидно, она наблюдала, как оборотень превращается из человека в волка. А когда волка убили, там была бабушка. Она не выскочила живой из живота — это очевидная поздняя рационализация, невозможная даже по меркам сказки. Но там была бабушка, и она лежала на полу, поражённая ударом топора дровосека, поскольку убитый оборотень всегда принимает человеческий облик.
— Холмс, — выдохнул я, — вы правы. Конечно, так и есть. Так просто, но так удивительно. И через столько веков, вы...
Молниеносным движением гибкого тела Холмс развернулся к юному Элиасу.
— А теперь, паренёк, слушай. Скажи своей маме, что, пока она была на пантомиме, ты, мой мальчик, стал первым в мире узнавшим правду о Красной Шапочке!
Мгновение мальчик сидел молча, уставившись на человека перед ним. Затем его рот приоткрылся, а глаза сощурились. Некоторое время, показавшееся нам долгими минутами, он молчал, но, наконец, из рта на дико искажённом лице раздался мучительный вопль. За все приключения, пережитые мной вместе с моим другом Шерлоком Холмсом, я ни разу не слышал крика, столь чисто и неразбавленно выражавшего ярость, агонию и разочарование.
Крик этот был столь громким, что мы не заметили, как в двери повернулся ключ. О возвращении дам нас предупредило лишь стремительное появление Кей Уитни, кинувшейся к пуфику, схватившей измученного отпрыска на руки и тщетно пытавшейся утихомирить его крики.
Моя жена, вошедшая вместе со всё ещё пребывавшим в воспоминаниях о пантомиме юным Айзой, с яростью повернулась ко мне.
— Джеймс! — закричала она так громко, что её можно было услышать даже сквозь детские вопли. — Что ты сделал с этим ребёнком?
— Джеймс, — заметил Шерлок Холмс. — Без сомнения, домашнее имя? Только подумать, что я знаю вас так давно, старина, но даже не побеспокоился установить, что ваш средний инициал должен значить “Хэмиш”.
Мэри повернулась к нему.
— Мистер Холмс, — произнесла она со зловещей вежливостью, созерцая сдвинутый ковёр, переставленную мебель, опустошённый тантал.
— Что они сделали с нашим маленьким? — непрестанно повторял голос Кейт Уитни.
Наконец, мастер Элиас смог удержать истерику в достаточной степени, чтобы указать пальцем на Шерлока Холмса.
— Плохой дядя! — обвинил он. — Плохой дядя испортил Шапку. Всё испортил! — И он возобновил свои голосовые упражнения.
Я старался говорить так громко и спокойно, как только мог.
— Насчёт того маленького дела о вакцинации в Ватикане, старина. Вам не кажется, что нам лучше обсудить его в моей приёмной?
Блеск в глазах Мэри немного смягчился. Наклонившись к моему уху, она прошептала:
— Ещё одна поездка?
— Обычный процент, — пробормотал я.
Она расслабилась и даже позволила мне взять с собой тантал.
— Вот, — позднее сказал Шерлок Холмс, — вот типичный пример реакции публики на правду. Нельзя ожидать от общественного мнения, всегда предпочитающего привычную ложь незнакомой правде, истинно научного подхода. Я обдумываю небольшую монографию о подобных обманчивых традициях. Например, я уверен, что с тех пор, как ваш приятель Дойл написал свою легенду о том, что он именует “Марией-Селестой”, правильное имя “Мэри-Селеста” полностью выйдет из употребления. И всё же мы должны стараться, где только можем, восстанавливать правду, преодолевая враждебность людей.
Populus me sibilat...
— ...
at numni, — мрачно перефразировал я, вспоминая злополучное полу-обещание, данное Мэри, —
desunt in arca...
[2]

 Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 19 апреля 2018
Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 19 апреля 2018 Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 02 феввраль 2019
Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 02 феввраль 2019 Перевод: Ирина Гурова с дополнениями и исправлениями Роджера Шерингэма, 12 июля 2019
Перевод: Ирина Гурова с дополнениями и исправлениями Роджера Шерингэма, 12 июля 2019 Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 25 январь 2020
Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 25 январь 2020 Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 01 февраль 2020
Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 01 февраль 2020 Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 28 май 2020
Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 28 май 2020 Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 14 октября 2020
Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 14 октября 2020 Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 16 октября 2020
Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 16 октября 2020 Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 20 ноября 2020
Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 20 ноября 2020 Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 14 апреля 2021
Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 14 апреля 2021 Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 25 апреля 2021
Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 25 апреля 2021 Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 25 мая 2021
Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 25 мая 2021 Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 27 июня 2021
Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 27 июня 2021 Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 28 ноября 2021
Перевод: Форум “Клуб любителей детективов”, 28 ноября 2021 Добро пожаловать на форум «Клуб любителей детективов» . Нажмите тут для регистрации
Добро пожаловать на форум «Клуб любителей детективов» . Нажмите тут для регистрации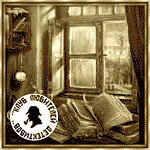

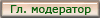
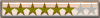

 Спокойный
Спокойный Сердитый
Сердитый





