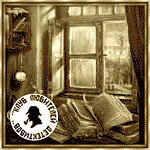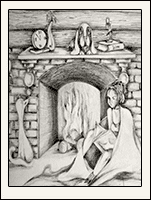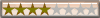АНТОНИЯ ФРЕЙЗЕР
ПЕРВОЕ ДЕЛО ДЖЕМАЙМЫ ШОР
Jemima Shore’s First Case
© by Antonia Fraser
First published: ???
© Перевод выполнен специально для форума "КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДЕТЕКТИВА"
Перевод: Алина Даниэль
Редактор: Ольга Белозовская
© 2020г. Клуб Любителей Детектива
ПЕРВОЕ ДЕЛО ДЖЕМАЙМЫ ШОР
Jemima Shore’s First Case
© by Antonia Fraser
First published: ???
© Перевод выполнен специально для форума "КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДЕТЕКТИВА"
Перевод: Алина Даниэль
Редактор: Ольга Белозовская
© 2020г. Клуб Любителей Детектива
! |
Весь материал, представленный на данном форуме, предназначен исключительно для ознакомления. Все права на произведения принадлежат правообладателям (т.е согласно правилам форума он является собственником всего материала, опубликованного на данном ресурсе). Таким образом, форум занимается коллекционированием. Скопировав произведение с нашего форума (в данном случае администрация форума снимает с себя всякую ответственность), вы обязуетесь после прочтения удалить его со своего компьютера. Опубликовав произведение на других ресурсах в сети, вы берете на себя ответственность перед правообладателями. Публикация материалов с форума возможна только с разрешения администрации. Внимание! В топике присутствуют спойлеры. Читать обсуждения только после прочтения самого рассказа. |
Jemima Shore’s First Case by Antonia Fraser [Jemima Shore] (ss) Jemina Shore's First Case, And Other Stories, January 1st 1986; Murder Most Sacred, New York: Dembner Books, 1989 г.; Jemima Shore's first case, London Weidnfeld & Nicolson, 2015
От первого крика девочка проснулась и перевернулась в постели. Второй крик был громче, и девочка резко подскочила, едва не запутавшись в скромном ночном облачении. Хлопковая ночная рубашка с высоким воротом и длинными рукавами была ей велика. Девочка была худенькой, почти тощей, с длинными рыжими волосами и раскосыми глазами на узком лице.
Девочку звали Джемайма Шор. Ей было пятнадцать лет.
Крики продолжались, и от них стыла кровь в жилах одинокой девочки в маленькой комнатке. Кажется, крики приближались? Стояла непроглядная тьма. Джемайма выпрыгнула из кровати и подбежала к окну. Она была высокой, и ее ноги торчали из-под развевающейся ночной рубашки, — слишком худые, чтобы быть красивыми, как и все ее тело. Джемайма отодвинула занавеску из неподрубленной материи в цветочек. Между занавеской и стеклом находилась железная решетка. Ее было невозможно отодвинуть. С другой стороны — то, что таилось во тьме снаружи, не могло войти внутрь.
Вид решетки привел Джемайму в чувство. Она вспомнила наконец, где она находится: в спальне на первом этаже закрытой школы в Сассексе, называемой монастырем блаженной Элеоноры. Обычно Джемайма посещала католическую закрытую школу только днем. Она поступила туда, когда ее мать поселилась возле монастыря блаженной Элеоноры, пока ее муж был за границей. Ситуация была необычной потому, что Джемайма была единственной приходящей ученицей, и — по крайней мере, теоретически — протестанткой: смутные представления миссис Шор о религиозном воспитании вряд ли позволяли утверждать большее.
Сейчас миссис Шор вызвали за границу, чтобы ухаживать за мужем, оправлявшимся после приступа желтой лихорадки, и достопочтенная мать Ансилла, настоятельница монастыря, согласилась на время приютить Джемайму. Отсюда и единственная свободная маленькая комнатка на первом этаже, и слишком большая монастырская ночная рубашка — представления миссис Шор о том, что следует надевать ночью ее дочери-подростку, не слишком соответствовали правилам монастыря блаженной Элеоноры. Джемайма, стоя у окна и недоуменно глядя во тьму по ту стороны решетки и стекла, словно пытаясь разглядеть там ответ, не понимала, почему ее среди ночи разбудили такие крики, словно кого-то убивали или жестоко избивали, — последнее, чего можно ожидать в спокойной тишине монастыря, наступавшей после девяти вечера.
Сколько времени могло быть? Мать оставила Джемайме свои дорожные часы, чтобы та могла узнавать время в долгие монастырские ночи. Взглянув на светящиеся стрелки — Джемайма не хотела включать свет, чтобы ее не увидели снаружи, — она увидела, что сейчас три часа ночи. Джемайма не боялась ни темноты, ни одиночества — возможно, потому что она была единственным ребенком — но полное равнодушие, с которым монастырь отнесся к ужасным крикам, напугало ее больше, чем сами крики. Большое здание из красного кирпича, построенное в двадцатые годы, служило не только закрытой школой для девочек, но и общиной монахинь, присматривавших за ними; эти два отсека были разделены часовней.
Часовня! Внезапно Джемайма поняла, что крики доносились оттуда. Ей пришла в голову пугающая мысль: лишь она могла находиться в пределах слышимости. Так называемые “девичьи” спальни находились в самом конце здания. Хотя Джемайма никогда не посещала жилья монахинь на другой стороне — ее лучшая подруга Розабель Пауэрсток, которая все знала о жизни монахинь, рассказывала, что в их кельях были крохотные окошки, расположенные высоко и вдали от часовни.
То ли из чувства долга, то ли из-за неистребимого любопытства, за которое монахини часто сурово ее укоряли, считая это любопытство частью злосчастного протестантского наследия, — но так или иначе Джемайма приотворила скрипучую дверь. Она старалась не шуметь. В длинном коридоре горел слабый огонек перед высокой статуей основательницы ордена Башни из Слоновой Кости — блаженной Элеоноры, одетой в черное платье, которое монахини носили и теперь. Руки статуи простирались вперед.
Джемайма осторожно направилась к часовне. Крики прекратились, но она услышала другой, более слабый звук, похожий на плач.
В призрачном сумраке Джемайма приблизилась к статуе, протягивающей руки вперед, — они выглядели приветливыми днем, но сейчас Джемайме показалось, что статуя хочет схватить ее и погрузить в непроглядную тьму.
Когда Джемайма тихонько подошла к часовне, ее ноздри почуяли знакомый аромат благовоний, воскуриваемых на этом месте уже пятьдесят лет во время утренних и вечерних служб. Она вошла в часовню (дверь была открыта) и увидела несколько горящих свечей перед статуей слева от нее. Аромат благовоний усилился. Маленькая красная лампада казалась далекой. Джемайма споткнулась обо что-то мягкое и бесформенное на полу посреди центрального прохода.
Джемайма вскрикнула — и в тот же момент сверток начал двигаться со стоном и произносить что-то вроде: “анашаала, анашаала”. Затем сверток приподнялся и оказался вовсе не свертком, а итальянской девушкой из ее класса по имени Сибилла.
В этот момент Джемайма поняла, что в перерывах между рыданиями Сибилла говорила: “Она шагала, она шагала” с характерным итальянским акцентом. Она казалась полной противоположностью дневной Сибилле — богатой черноволосой красавице, которая носила недозволенные золотые цепочки и браслеты и красилась тоже больше дозволенного. Джемайма плохо знала Сибиллу, несмотря на общие уроки. Она убеждала себя, что причина в том, что Сибилла, в отличие от Джемаймы и ее подруг, не интересовалась литературой, искусством, историей и вообще ничем, кроме самой Сибиллы, ее развлечений, вечеринок и людей того сорта, которых встречаешь на вечеринках, — в основном мужчин. Сибилла была старшей в классе (ей было семнадцать), а Джемайма младшей, так что их разделяла еще и разница в возрасте. Однако в действительности дело было в том, что Сибилла была принцессой (хоть и итальянской, а не из английской королевской семьи), а Джемайма принадлежала к среднему классу и гордилась этим, не желая быть обвиненной в снобизме.
Обнаружить Сибиллу — принцессу Марию Сибиллу Магдалену Граффо ди Санто Стефано, если именовать ее полным титулом — в часовне ночью казалось совершенно непостижимым. Зная Сибиллу, было невозможно представить, что ее внезапно охватила религиозная мания и желание помолиться ночью в одиночестве. Сибилла была бесстыдно ленива во всем, что касалось религии. Ее с трудом можно было вытащить из постели даже к мессе, обязательной по воскресеньям и праздничным дням; она жалобно сопротивлялась, подобно черной кошечке, отворачивающейся от огня. К религиозному пылу других — например, подруги Джемаймы Розабель Пауэрсток — она относилась с насмешкой.
“Какая скука! — вот и все, что можно было услышать от нее в день обязательного празднества Дня Непорочного Зачатия. — Зачем это нужно? Я думаю, у нас в Италии такого нет”. К счастью, высказывания Сибиллы о религии никогда не доходили до ушей достопочтенной матери Ансиллы, которая быстро наставила бы на путь истинный недостойную наследницу знатнейшего итальянского рода (среди предков которого были, если верить злым языкам, один-два римских папы).
В любом случае мысль о религиозной мании Сибиллы можно было смело отбросить.
— Сибилла, — произнесла Джемайма, дотронувшись до ее плеча, — не плачь.
В этот момент раздался звук, которого Джемайма подсознательно ждала с самого момента пробуждения: поступь характерных быстрых шагов монахини в полном облачении с четками на поясе и в обуви на каучуковых подошвах по мраморному полу.
— Сибилла, Джемайма? — при последнем имени в резком, но сдержанном голосе заведующей больницей сестры Вероники послышалось удивление. Она быстро овладела ситуацией и с помощью нескольких фраз: “Быстро в постель, вы обе” и “Не разговаривайте до тех пор, пока утром не встретите достопочтенную матушку” — прекратила судорожные рыдания Сибиллы. Джемайма заметила, что в кризисных ситуациях монахини инстинктивно начинали обращаться с подростками как с маленькими детьми; а может, они всегда считали их детьми, и при кризисе это проявлялось. В конце концов, Сибилла была почти взрослой, если судить по ее внешнему виду. Джемайма вздохнула: ну как можно было отправиться в постель, так и не удовлетворив своего неистового любопытства?
К счастью для Джемаймы, сестра Вероника, прежде чем выдворить их, решила еще раз осмотреть часовню на случай, если там спрятались другие ученицы.
— Что случилось, Сибилла? — прошептала Джемайма, воспользовавшись возможностью. — Кто тебя напугал? Я подумала, что тебя убивают…
Сибилла протянула загорелую руку (в отличие от большинства девочек в монастыре, она часто загорала на солнце и не носила положенных белых ночных рубашек).
— О Господи, Джемайма! — это прозвучало как “Ооосподи, Джемайма”. — Я же сказала тебе! Она шаала!
— Кто шагал, Сибилла?
— Статуя. Которую они зовут святой Нелли. Она протянула ко мне руки. Она меня потроаала. Это было… miraculo. Как вы это называете? Чудо.
В этот момент сестра Вероника вернулась, и наступило молчание.
Но разумеется, ненадолго. На следующее утро все старшеклассницы возбужденно болтали, и слова “чудо”, “чудо Сибиллы” и “Ты слышала о чуде?” звучали повсюду. В сравнении с чудом Сибиллы (или с чудом блаженной Элеоноры — как посмотреть) само появление Сибиллы в часовне посреди ночи осталось почти незамеченным — никем, кроме Джемаймы, которая не верила в чудеса и поэтому очень хотела узнать о случившемся с Сибиллой больше, чем ей удалось ночью. Джемайма решила поговорить с Сибиллой сразу после урока математики, нагонявшей на Сибиллу тоску.
Сибилла улыбнулась Джемайме, показав ямочки на розово-оливковых щеках — свою самую прелестную черточку. (Может быть, этот розоватый блеск был результатом искусного наложения румян? Но Джемайма не была монахиней, и ее интересовало другое.)
— Это глупо, — шептала Сибилла, позвякивая прелестным золотым браслетом. Джемайму поразило, что четки монахинь и украшения Сибиллы издавали одинаковой звук и служили одной и той же цели: продемонстрировать свое присутствие. — Но ты знаешь этих монашек: они не разрешают мне писать отцу. Такая тоска! То есть они позволяют мне писать, но, кажется, они должны читать все письма. Так мама им приказала — или, может быть, они сами решили, я не знаю. Мама такая святая, ооосподи, она сама как монашка. А папа… — Сибилла снова показала свои ямочки. — Папа… как тебе сказать… он плохой мальчик…
— Беспутный? — подсказала Джемайма, но Сибилла не обратила внимания на ее слова. Она была занята восторженными и даже ностальгическими описаниями плохого (или беспутного) принца Граффо ди Санто-Стефано и его разнообразных развлечений. (Принцесса явно отвергала идею строгого благочестия, и Джемайма поняла, что Сибилла была дочерью своего отца.) Принц водил знаменитые автомобили, сопровождал знаменитых красавиц, катался на знаменитых горнолыжных курортах, устраивал праздники на знаменитых яхтах и делал множество других чудесных вещей. “Папа не выносит скуки, он ее ненавидит!” Эти невинные, по мнению Сибиллы, развлечения стали причиной того, что брюзгливая принцесса запретила мужу общаться с дочерью. О разводе, разумеется, в Италии речи быть не могло без позволения матери-церкви, которой принцесса ревностно повиновалась.
— Папа тоже не хочет развода, — признала Сибилла. — Тогда ему бы пришлось жениться. Не знаю, на ком, но явно на одной из своих женщин. Это было бы для папы ужасно. Такая скучища! И еще ему нужны деньги, у бедного папы их нет, все деньги у мамы. По-моему, это нечестно, она должна дать ему денег, он ее marito, ее муж, ей следует дать ему денег. Как ты считаешь, Джемайма?
Джемайма, ощутив слабый порыв примитивного феминизма при описании семейного положения Санто Стефано, попыталась вежливо перевести разговор на другую тему.
— А статуя, Сибилла? — спросила она.
— Ах, — Сибилла сделала паузу, — понимаешь, Джемайма, я ему пишу. Я рассказываю о разных приятных вещах, но не хочу, чтобы монашки про это читали. Поэтому… — она снова замолчала — я передаю письма с Грегори, — закончила она чуть вызывающе. — Да, с Грегори. Нашим садовником, водителем, таксистом и кто он там еще…
Джемайма уставилась на нее. Она знала Грегори — нового работника, удивительно юного для того, чтобы быть допущенным в женский монастырь, но все-таки…
— И я кладу письма по ночам под статую святой Нелли, — доверительно продолжала Сибилла. — Как проснуться? Ооооосподи, это не сложно. Вот рано лечь спать — это сложно. Нас здесь заоооняют в постель как детей. А Грегори забирает письма по утрам, когда приносит почту. Потом он принесет мне ответ, который получит на почте. В этот день в большой вазе под статуей будет стоять красный цветок. И тогда я приду ночью и получу свое miraculo, — победоносно произнесла она.
Но Джемайма не верила в чудеса и потому молчала, слушая взволнованный рассказ Сибиллы о том, как статуя протянула руки и прикоснулась к ней, когда она прятала письмо (которое она сразу забрала обратно) и так далее, и тому подобное. Джемайма чувствовала, что собственный рассказ все больше возбуждает Сибиллу.
— Вот так я оказалась в часовне, — завершила Сибилла. — И я тогда начала крррричать и кррррричать, пока ты, Джемайма cara
Это по крайней мере было правдой, подумала Джемайма. У нее сложилось впечатление, что Сибилла, при всей доверительной теплоте, сказала ей неправду — или не всю правду. Так же, как разум Джемаймы не позволял ей верить в чудеса, так инстинкт не позволял поверить рассказу Сибиллы — во всяком случае, не целиком.
И Джемайма, и Сибилла должны были слушать взволнованную речь на уроке литературы сестры Элизабет, посвященном ее любимому Водсворту (“О, какой это чудесный человек!”).
— Однажды он получил великолепный Восток в награду, — звучным голосом декламировала сестра Лиз, перед тем, как жалобно добавить: — Сибилла, проснись. В конце концов, речь и о твоей Венеции, а не только о Венеции Водсворта.
Сибилла неохотно подняла голову с парты, куда та опустилась словно под весом тяжелой копны волос, ничем не повязанной вопреки правилам. Было ясно, что ее мысли далеко от Венеции — ее или еще чьей-то — и еще дальше от Водсворта.
Еще одной персоной, не верившей в чудеса — во всяком случае, именно в это чудо, — оказалась преподобная мать Ансилла. Неизвестно, поверила ли она рассказу Сибиллы о том, что та пришла в часовню во сне (“Я была словно невинный ребенок”), но мысль об ожившей статуе она отвергла.
— Глупости, дитя, ты просто спала. Ты сама это сказала. Тебе все это приснилось. И хватит разговоров о чудесах: пути Господа нашего или блаженной Элеоноры могут быть неисповедимыми, но не такими таинственными, как этот, — твердо произнесла мать Ансилла с видом человека, для которого таинственность далеко не главное. — Следующие четырнадцать дней будешь рано ложиться в постель. Нет, Сибилла, я приказываю. Тебе нужен отдых, чтобы прояснить твой ум, пришедший в смятение после вчерашнего происшествия.
Даже Сибилла осмеливалась лишь мрачно взглянуть на мать Ансиллу, когда та была в таком настроении. Школе пришлось подчиниться запрету обсуждать происшествие. Без пищи слухи о чуде быстро заглохли, сменившись другими: например, скандалом по причине того, что близнецы Анни и Петти Клитеро (их полные имена были Аннунциата и Перпетуя) не были избраны детьми Марии. Это случилось по совершенно несправедливой причине: некая Мэри Квентиш описала их в серии статей “Монастырские детки” в глянцевом журнале, изложив при этом свою версию монастырских обычаев.
Джемайма порой думала, продолжает ли Сибилла свою тайную переписку. Время от времени она посматривала на Грегори, когда он выполнял свою работу, которую не могли выполнить сами монахини (как ни странно, к ней относилась тайная передача писем). Грегори был серьезным тридцатилетним мужчиной с густыми курчавыми коротко стрижеными волосами; в нем не было ничего выдающегося, и не будь он единственным лицом мужского пола в монастыре (за исключением приходившего утром и вечером священника и родителей по выходным), Джемайма вряд ли запомнила бы его лицо. Однако он был очень приятным человеком, хоть и не склонным к разговорам — во всяком случае, не с Джемаймой. Удивительно, что Сибилле удалось подкупить его.
Настала очередь Джемаймы вздохнуть. Лучше взглянуть фактам в лицо. Сибилла была богата — это было видно по ее внешности — и соблазнительна. Джемайма вновь вздохнула, подумав о Сибилле, более похожей на итальянскую кинозвезду (даже если кормить ее спагетти), чем Джемайма могла когда-либо мечтать. Конечно, оба этих фактора — деньги и внешность — помогли Сибилле соблазнить Грегори. Следовало сосредоточиться на других вещах: как выиграть Английский приз (и тем самым победить Розабель) или получить роль Гамлета в школьном спектакле (и тем самым победить всех).
Когда Сибилла появилась в субботу утром после мессы в компании дамы средних лет и двух мужчин в пальто из верблюжьей шерсти — один был высоким и смуглым, а второй просто смуглым — Джемайма снова подумала о семействе Санто Стефано. Были ли они родственниками? Монастырские правила были достаточно строгими, чтобы предположить, что это могли быть просто друзья — особенно учитывая, как тщательно мама-принцесса следила за допуском к ее дочери. К тому же дама была похожа на Сибиллу, и по ее расплывшейся фигуре можно было догадаться, какими станут соблазнительные формы Сибиллы в среднем возрасте.
Любопытство Джемаймы было удовлетворено неожиданно скоро: сразу после мессы Сибилла направилась к ней и с чарующей улыбкой, играя ямочками, представила ей своего кузена Танкреди, тетю Кристиану и дядю Умберто.
— А сейчас, Джемайма, ты пойдешь с нами обедать. Да, я настаиваю. Ты спасла меня. Si, si
— Как удивительно, что они здесь! Я их не ждала. Они приехали следить за непослушной Сибиллой, — она снова улыбнулась. — Но, слушай, Танкреди похож на моего папу, так что теперь ты знаешь, как выглядит мой папа, — красавец, правда? А папа ооооочень любит Танкреди. Ну что, пойдем?
— У меня нет разрешения, — отчаянно проговорила Джемайма. Одного лишь взгляда на Танкреди хватило, чтобы понять, что он воплощал ее идеал мужской красоты, взятый отчасти из портрета лорда Байрона на обложке хрестоматии, отчасти из описания героя романа Джорджетт Хейер “Ученик дьявола”. (Подобно многим интеллектуалкам, Джемайма втайне обожала Джорджетт Хейер. Джемайма вместе с Розабель, Анни, Петти и всей их компанией радовалась, когда более старшие и несомненно интеллектуальные женщины публично признавались устно и письменно, что в годы их юности Джорджетт Хейер была важным, хоть и официально не признанным, явлением литературы.)
Увы — Джемайма была совершенно не готова к встрече с Танкреди, мужчиной ее мечты. Единственное, чем она могла гордиться в своей внешности, — волосы — уныло свисали, так как в прошлые дни у нее не было причины вымыть голову; ее “домашняя одежда”, которую ей разрешалось надевать, когда она уходила из монастыря, принадлежала более низкой девочке (потому что миссис Шор купила ее год назад), и никак не походила на мини-юбку, будучи слишком старомодной.
В общем, Джемайма разрывалась между восторгом и опасением, когда Сибилла в своем привычном беспечном стиле решила ее проблему: “Но у тебя же такие чудесные длинные ноги! Танкреди видел тебя, ma die bella
— Необычная дружба, дорогая Джемайма, — сухо заметила достопочтенная матушка, добавив: — Но, возможно, вы с Сибиллой чему-нибудь научитесь друг у друга. — Ее небольшие яркие глаза из-под покрывала оглядели блузу и юбку Джемаймы.
— Это мини-юбка? — спросила матушка резким голосом. — Нет, я вижу, что нет. А твоя дорогая мама далеко… — Мысли матери Ансиллы явственно щелкали быстро, как бусины ее розария
Удивительно — но благодаря совершенно немирским монахиням Джемайма вместо обвисшей блузы и старомодной юбки оказалась одетой в черный костюм, отделанный бежевой тесьмой и выглядевший так, словно был создан Шанелью
Без этого костюма смогла бы Джемайма очаровать Танкреди так, как это получилось у нее во время обеда? Потому что, как позже Джемайма рассказала Розабель, Танкреди был очарован, и Розабель, узнав подтверждающие факты, согласилась с ней. Иначе отчего он бросал на нее жгучие взгляды, направлял винный бокал в ее сторону, словно бы случайно касался под столом ее колена своей ногой в голубоватом шелковом костюме — слишком ярком для английского? Что до самого Танкреди — он стоил того, чтобы его очаровывать. В его мускулистой фигуре в элегантном костюме не было ничего женственного, он распространял атмосферу космополитической изысканности и аромат Eau Sauvage
Что касается дяди и тети Сибиллы — маркиза говорила мало, но, когда это случалось, из ее уст звучала правильная английская речь, в которой слышался — то ли случайно, то ли намеренно — легкий укор, словно присутствие Джемаймы на обеде требовало объяснения или оправдания. Ответы Джемаймы на вопросы маркизы о ее происхождении и предыдущем образовании, казалось, особенно ее раздражали; услышав, что отец Джемаймы служил в британской армии, маркиза просто уставилась на нее. Джемайма надеялась, что причина в национальных предубеждениях из-за воспоминаний о войне, но опасалась, что дело в обычном снобизме.
Дядя Умберто был обычным рябоватым коротышкой, которого можно было принять за официанта, не будь он итальянским аристократом. После короткого опроса они начали говорить с племянницей по-итальянски (видимо, о семейных делах, подумала Джемайма), тем самым предоставив Танкреди возможность ухаживать за Джемаймой.
На следующий день Сибилла гордо сообщила:
— Ты выиграла, Джемайма! Танкреди считает тебя таааакооой интел-лек-ту-альной, — она растягивала слова, — и спрашивает, все ли английские дееееевууушки таааакие интел-лек-ту-альные, но я сказала, что ты славишься своим интел-лек-том, да так, что даже можешь счесть его глууууупыым.
— Не такая уж я умная, Сибилла, — возразила Джемайма, которая хотела привлечь Танкреди чем-то иным, кроме своего знаменитого интеллекта. Конечно, интеллект мог помочь ей выиграть приз (она все еще хотела победить Розабель) — но ей хотелось, чтобы к ней относились иначе, чем к интеллектуалке в блестящем международном обществе, где она уже обитала в своих мечтах…
Однако, когда пришло письмо Танкреди, в нем говорилось вовсе не об интеллекте Джемаймы, а воспевалась ее английская красота, ее лицо цвета клубники со сливками, волосы, подобные солнцу Италии, и так далее и все такое, чего Джемайма не могла вообразить даже в самых смелых мечтах. Способ доставки письма был не таким приятным: его вручила Сибилла, сообщив, что оно было спрятано в конверте письма от его сестры Марии-Глории (письма от родственниц не вскрывали). Прочитала ли Сибилла письмо в конверте, заклеенном скотчем?
Если да — сердце Джемаймы разрывалось между смущением и гордостью.
Вскоре пришло еще несколько писем. Он хотел снова увидеться с ней.
— Конечно, он хочет опять увидеть тебя! — восклицала Сибилла. — Он любит тебя! Разве он не повторяет это снова и снова?
Джемайма взглянула на нее. Значит, Сибилла знает содержание писем. К своему удивлению, Джемайма поняла, что не так уж сильно хочет увидеть Танкреди, хотя его тайные письма стали центром ее эмоциональной жизни. В страсти Танкреди было что-то похожее на чудо — криво усмехалась себе самой Джемайма, которая не верила в чудеса и в то же время не могла запретить себе волноваться о том, что второй раз чуда может не случиться. В конце концов, именно любопытство, а не романтика заставляло Джемайму противиться дерзкой мысли Сибиллы о свидании. Она должна была принять Танкреди в своей комнате, оставив решетку открытой.
— Ключ! — возражала Джемайма. — Это невозможно! Где мы возьмем ключ?
— Ох, Джемайма, ты такая умница, — промурлыкала Сибилла, как никогда похожая на толстую черную кошку, отворачивающуюся от сливок. — Ты что-нибудь придумаешь. Иначе Танкреди уедет в Италию и ты его так и не увидишь. Это так грустно. У него там столько девушек…
— Как у твоего папы? — не смогла удержаться Джемайма. Но Сибилла лишь надула губы.
— Я дам тебе длинное-длинное письмо к папе, если ты скажешь “да”, — вздохнула она. — Я сейчас боюсь просить Грегори. Папа думает… — Она помолчала. — Он боится. И я тоже боюсь. Из-за движущейся статуи, — Сибилла вздрогнула.
— Нет, Сибилла, — ответила Джемайма.
Тем не менее Сибилла со своим вечно томным видом отказалась положить цель предполагаемой дерзкой экспедиции Танкреди к подножью блаженной Элеоноры. Джемайма, в свою очередь, разрывалась между убеждением в невозможности добыть ключ от оконной решетки и гордым нежеланием потерпеть неудачу от монахинь. Наконец победила гордость — возможно, Джемайма предчувствовала это заранее. Она заметила, наблюдая за сестрой Димпной, запиравшей комнаты и решетки, что решетка открывается ключом, но захлопывается автоматически. Оставалось положить кусочек черного картона между решеткой и косяком и отвлечь сестру Димпну в тот момент, когда маленькая монахиня закрывала решетку.
Все получилось. Джемайма сама тщательно захлопнула решетку после того, как сестра Димпна ушла. В ту ночь Джемайма не спала, глядя в темное окно, через которое придет Танкреди, если она захочет его впустить. Она некстати подумала о той ночи, когда ее разбудили ужасные крики Сибиллы. Она вспомнила ночь в часовне с перепуганной девушкой, запах благовоний — и внезапно ее мысли перенеслись к первой и пока единственной встрече с Танкреди. Ее собственное чудо. Она вспомнила, как Сибилла произносила: “Miraculo”.
— Но я не верю в чудеса, — сказал хладный глас рассудка лежащей в темноте девочки, сопротивляясь соблазнительному средиземноморскому очарованию Сибиллы. — И есть кое-что еще: мой инстинкт. В ту первую ночь я понимала, что она лжет. Почему статуя двигалась?
Джемайму охватила тревога. Она вскочила с кровати, включила свет и посмотрела на свое отражение в маленьком зеркале над раковиной.
— В субботу, — сказала Джемайма на следующее утро. Ее голос звучал холодно. — Пусть Мария Глория передаст письмо.
Сибилла от радости не заметила ее холодности.
— И еще, Сибилла…
— Cara?
— Дай мне письмо для твоего отца пораньше, потому что мне разрешили поехать домой, чтобы взять несколько подходящих маминых платьев — она скоро возвращается. Поэтому дай мне письмо перед тем, как я уйду, — позже мы можем не увидеться.
Сибилла заключила Джемайму в мягкие, теплые, ароматные объятия.
В субботу Джемайма поняла, что она разрывается между двумя противоположными чувствами. Одна ее сторона жаждала ночного свидания, что бы оно ни принесло, а другая мечтала, чтобы ночь никогда не наступила и она всю оставшуюся жизнь ожидала Танкреди… Была ли это любовь? Джемайма никогда не была влюблена, не считая пары воскресных флиртов с младшими офицерами отца, хотя они часто обсуждали эту тему с Розабель (из остальных друзей Анни и Петти были слишком игривыми, а Бриджет — слишком благочестивой, чтобы говорить об этом). Но была и другая ее сторона, холодная и рациональная, твердившая: “Я хочу разобраться, я хочу узнать, что происходит, каким бы болезненным не оказался ответ”.
Джемайма посетила свой дом. Ее привез молчаливый Грегори, а сопровождала сестра Вероника, которая сердито согласилась с Джемаймой, что сад в ужасном состоянии и следует убрать засохшие ветви. “Идем, Джемайма, сделаем это вместе”. Джемайма подняла грабли с запущенной клумбы и начала старательно сгребать ветки и листья под речи сестры Вероники. (Грегори не пришел помочь и остался сидеть в автомобиле). На обратном пути Джемайма была совершенно спокойна, что в совокупности с загадочно молчаливым Грегори позволяло сестре Веронике всласть обсуждать неопрятное состояние дома семейства Шор (“Твоя бедная дорогая матушка… у нее нет садовника…”). Весь остаток дня и вечер Джемайма твердо поддерживала на плаву исследовательскую часть своей души. Ее эмоциональная тоска была слишком мучительной.
Тьма опустилась на монастырь. Из угла окна — открытого или, вернее, со щелью между косяком и решеткой, которую мог заметить лишь тот, кто знал, что решетка не будет заперта, — Джемайма видела, как свет в окнах верхних этажей постепенно гас. Сибилла спала в своей комнате, которую она разделяла с похожей на обезьянку француженкой по имени Элен, вечно мерзнувшей даже летом. “Она слишком мерзнет, чтобы проснуться. Она спит, как мышка-норушка”, — рассказывала Джемайме Сибилла. Но теперь за Сибиллой по ночам следили, и она не могла передвигаться так свободно, как прежде.
На другой стороне здания спали монахини — все, кроме дежурных и сестры Вероники в больнице. Джемайма не представляла себе, где спит мать Ансилла — или не спит, а в молитвенном уединении недолгие ночи перед ранней утренней мессой? Но Джемайма предпочитала о ней не думать: настоятельница славилась своей проницательностью, и Джемайме потребовалось мужество даже для того, чтобы пожелать ей спокойной ночи. Она боялась, что зоркие темные глаза разглядят ее намерения.
В комнате Джемайма решила не переодеваться в ночную рубашку. Она натянула джинсы, тайком захваченные из дома и строго запрещенные в монастыре, и короткий черный шерстяной свитер с высоким воротом. Несмотря на ее скептицизм, атмосфера монастыря вызвала у нее желание помолиться.
Даже согласно рациональным стандартам молитва не могла принести вреда, и Джемайма трижды произнесла “Аве, Мария”.
Как ни странно, но лишь после того, как она услышала тихие — очень тихие — шаги за окном и звук отодвигаемой решетки, она поняла, что ее поведение не просто безрассудно, а вправду опасно. Но было уже поздно. Оставалось отодвинуть решетку как можно тише — после выходки Сибиллы монахини время от времени осматривали коридор. Она осторожно приоткрыла окно.
Через подоконник перелез Танкреди, одетый в черный свитер, похожий на ее собственный, черные брюки и черные туфли на каучуковой подошве. Аромат Eau Sauvage наполнил комнату. На секунду Джемайма замерла… затем позволила Танкреди заключить себя в объятья. Он поцеловал ее, и его слишком тонкие губы прижались к ее губам.
Затем Танкреди чуть отодвинулся и погладил ее по бедру, затянутому в джинсы.
— Какая броня! Ты даже не пытаешься соблазнить меня! — прошептал он ей на ухо. Джемайма ощущала его улыбку в темноте. — Ты немножко похожа на монашку, правда? — Он дотронулся до ее груди в тугом черном свитере. — Совсем чуть-чуть.
— Танкреди, ты не должен… Я хочу сказать…
Что она хотела сказать? Она знала, что она хочет сказать. Она ведь все заранее продумала, не так ли?
— Послушай, Танкреди, ты же пришел за письмом Сибиллы? Оно очень толстое. Ты должен взять конверт и уйти. Понимаешь, монахини очень подозрительны. Я не смогла тебя предупредить, но мне кажется, что они что-то заподозрили. Мать Ансилла — это настоятельница — очень догадлива. — Джемайма чувствовала, что ее речь превращается в детский лепет. — Так что возьми письмо и уходи.
— Да, я возьму письмо. В свое время. Или сейчас, tesoro
— Ты должен поскорее найти письмо и уйти.
— Найти? Разве оно не у тебя? — спросил Танкреди более отрывисто.
— Я… Я его спрятала снаружи под статуей. Понимаешь, по субботам у нас проверки. Проверяют все ящики, тумбочки — все-все-все. Поэтому я не посмела оставить его здесь. Я положила его туда же, куда раньше Сибилла. Я объясню тебе, куда идти…
К великому облегчению Джемаймы — да, к облегчению! — Танкреди, кажется, понял, что нужно поспешить. Выходя в еле освещенный коридор, он поцеловал ее весьма небрежно, и лишь аромат Eau Sauvage в комнате напоминал ей о том, каким романтичным могло стать их свидание при других обстоятельствах. Джемайма села на кровать и стала ждать возвращения Танкреди. Будет еще одно объятие, один поцелуй — возможно, небрежный, возможно, более долгий — а затем он растворится во тьме, из которой возник, и исчезнет из ее жизни.
Она ждала.
Но все пошло вовсе не так, как задумала Джемайма. Танкреди снова возник в двери, за его спиной виднелась большая статуя, а в руке он держал карманный фонарик и надорванный конверт. В следующую минуту он прыгнул к ней и схватил ее за горло сильными руками.
— Где это? — яростно прошептал он. — Ты его забрала? Кто его взял? — И еще более злобно: — Что это такое? — Он смотрел на Клинекс
— Танкреди, я не знаю… — пробормотала она. И тут, к ужасу Джемаймы, она увидела, что позади Танкреди движется что-то, похожее на статую блаженной Элеоноры. Джемайма закричала, чувствуя, как пальцы Танкреди сжимают ее горло. А затем много вещей случилось одновременно. Позже, рассказывая об этом Розабель под строжайшим секретом (близнецы Клитеро и Бриджит об этом никогда не узнали), Джемайма с трудом вспомнила, в каком порядке все произошло. Статуя начала приближаться к ним, зажегся огромный фонарь, направленный прямо на них, и Джемайма услышала голос Грегори, произнесший: “Инспектор Майкл Ванн, отдел по борьбе с наркотиками”, — и этот Майкл Ванн арестовывал Танкреди!
Вернее, собирался арестовать, так как едва Танкреди услышал его и увидел вспышку света, он мгновенно оставил Джемайму, ринулся к окну, вылез через решетку и исчез.
Послышалось множество голосов — необычайно много для тихого монастыря ночью — и можно было разобрать слова: “Ничего, мы его возьмем” и “вокзалы, аэропорты”. Все это смешалось в голове Джемаймы. Все казалось безумным, начиная с движущейся статуи и кончая словами Грегори:
— И все-таки ему удалось унести эту дрянь.
— Нет, не удалось, — ответила Джемайма тихо, но уверенно. — Я закопала ее дома в саду.
Первое, что сказала мать Ансилла (и это было характерно для нее, как позже заметила Джемайма в разговоре с Розабель):
— Джемайма! Ты надела джинсы!
— Надо же было ей с чего-то начать, — ответила Розабель. — Видимо, для нее это было слишком — отдел по борьбе с наркотиками, ворвавшийся ночью в монастырь — несмотря на щедрый улов и на то, что принц оказался мерзким пушером. Слава Богу, что все это кончилось к началу нашего спектакля.
Розабель недавно назначили на роль Гамлета (Джемайме дали роль Лаэрта — несчастного заблудшего опрометчивого юноши, как назвала его сестра Элизабет, взглянув в сторону Джемаймы). Теперь Розабель могла полностью посвятить себя представлению.
— Мать Ансилла услышала от тебя надлежащее объяснение? — спросила она.
— Ты знаешь мать Ансиллу, — сочувственно ответила Джемайма, — она мыслила так праведно! Пока я не заявила невинным голосом, что монахини наверняка согласны с иезуитами, что цель оправдывает средства.
— Ты молодец! И что она ответила?
— Приказала мне написать эссе об истории ордена иезуитов к пятнице. Мать Ансиллу невозможно перехитрить.
— Сибилле и Ко это явно не удалось. Ну что ж, Джем, тебе повезло. Ты спрятала кокаин, Танкреди не убил и не похитил тебя.
— Да, конечно, мне повезло, — ответила Джемайма, и Розабель показалось, что в ее голосе прозвучала грусть.
Одним из последствий этой ночи стал стремительный отъезд Сибиллы из монастыря. Ее плачущую фигурку окружало множество дорогих бархатных зеленых чемоданов. Она отказалась говорить с Джемаймой, лишь бросила ей: “Ты ааадкая, и я тебя ненавижу. Танкреди тоже тебя ненавидит. Он считает, что ты ааааадкая уродина”. Сибилла яростно отвернулась, и ее роскошные серьги, которые она теперь могла носить открыто, сверкнули и зазвенели.
Что ожидало Сибиллу? Отдел по борьбе с наркотиками был склонен проявить снисхождение к особе, явно находившейся под влиянием отца, обожающего удовольствия и ограниченного в средствах (опасное сочетание). К тому же благодаря ранее полученной информации они наблюдали за ней с момента ее приезда в Англию, и хитроумная затея принца провозить в Англию наркотики в школьном багаже дочери с пометкой “Монастырь блаженной Элеоноры, Чарн, Сассекс” оказался далеко не таким надежным, как он думал. А загадочный молчаливый садовник Грегори не так повиновался Сибилле, как она воображала с гордостью, а Джемайма — с завистью.
Однако Грегори в качестве детектива под прикрытием не полностью справился с задачей. Он позволил Сибилле ускользнуть ночью и устроить истерику, с помощью которой она смогла вовлечь Джемайму в их план. Можно было считать, однако (Джемайма и Розабель были в этом уверены), что на самом деле вовлек Джемайму Танкреди, посланник принца, после того, как Сибилла побоялась обращаться к Грегори. Вот тогда Джемайма храбро заманила в ловушку Танкреди и находчиво спрятала кокаин.
Джемайма тоже была небезупречной, как заметила мать Ансилла, повторив замечание насчет джинсов и добавив про девочек, которые скрывают важные вещи вместо того, чтобы посоветоваться со старшими, и назначают тайные свидания мужчинам, хоть и с благой целью. А затем мать Ансилла спросила:
— Но, Джемайма, дорогое дитя, — как ты догадалась?
— Я не поверила во второе чудо, матушка, — призналась Джемайма.
— Во второе чудо, детка?
— Я и в первое не поверила — в движущуюся статую Сибиллы. А вторым чудом было то, что ее кузен влюбился в меня. Я посмотрела на себя в зеркало, и… — ее голос прервался. Матери Ансилле показалось, что она заставляет Джемайму рассказать то, о чем та предпочитает молчать.
Мать Ансилла взглянула на Джемайму. Ее взгляд был испытующим, но добрым.
— Джемайма, я уверена, что, когда ты закончишь учебу, ты станешь прекрасной като… прекрасной женой и матерью (мать Ансилла хотела сказать “католической женой и матерью”, но вспомнила о вероисповедании Джемаймы).
Джемайма поняла, что это ее первый и единственный шанс одержать победу над матерью Ансиллой.
— Нет, достопочтенная матушка, — храбро произнесла она, — я не собираюсь быть женой и матерью. Я пойду работать на телевидение. — И, напомнив матери Ансилле непослушного домашнего питомца, она все же добавила:
— Я буду заниматься журналистскими расследованиями.
 Добро пожаловать на форум «Клуб любителей детективов» . Нажмите тут для регистрации
Добро пожаловать на форум «Клуб любителей детективов» . Нажмите тут для регистрации