"Планы на жизнь" (сборник)
Автор Клуб любителей детектива
Первое издание на языке оригинала: "Crime Club by Doubleday", 1980 г. Формат: Авторский сборник рассказов Переведено по изданию: "Designs of Life", e-book 2010 г. Перевод: Эстер Кецлах 「псевдоним」 Редактор-корректор: Ольга Белозовская Подробная информация о конкретных рассказах во вкладке "Содержание" (примечания к названиям). | 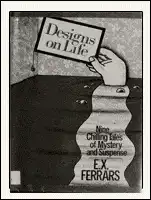 |
-
ВНИМАНИЕ!
Весь материал, представленный на данном форуме, предназначен исключительно для ознакомления. Все права на произведения принадлежат правообладателям (т.е согласно правилам форума он является собственником всего материала, опубликованного на данном ресурсе). Таким образом, форум занимается коллекционированием. Скопировав произведение с нашего форума (в данном случае администрация форума снимает с себя всякую ответственность), вы обязуетесь после прочтения удалить его со своего компьютера. Опубликовав произведение на других ресурсах в сети, вы берете на себя ответственность перед правообладателями.
Публикация материалов с форума возможна только с разрешения администрации. -
Содержание
⍻ After Death the Deluge║———*1-ая публикация на языке оригинала:*"The 20-Story Magazine #220", октябрь 1940 г.
⍻ The Truthful Witness║———*1-ая публикация на языке оригинала:*"Choice of Weapons", Hodder & Stoughton, 1958 г.

⍻ Drawn into Error║———*1-ая публикация на языке оригинала:*"Planned Departures", Hodder & Stoughton, 1958 г.

✓ Scatter His Ashes║Рассыпанный пепел*
-
Прощай, милая роза
В ТОТ день, когда миссис Холройд отказалась от предложения мистера Покока выйти за него замуж, он в первый раз подумал о том, чтобы убить ее. Ее отказ, такой мягкий, такой любезный, однако совершенно неожиданный, сначала так поразил его, что ему показалось, будто он внезапно налетел на какое-то препятствие и рухнул наземь. А потом он почувствовал дикую ярость. На какое-то безумное мгновение ему захотелось обхватить руками ее тонкую шею и выжать из нее жизнь. Но вслед за этой вспышкой ненависти пришел страх. После своего последнего убийства он решил больше никогда никого не убивать.
В тот раз он избежал ареста, однако был на волосок от гибели. И он знал, что полиция все еще уверена в его виновности, хотя у них было недостаточно улик, чтобы выдвинуть против него обвинение. Во многом это произошло из-за страсти Люсиль к чистоте. Она намывала, надраивала и начищала всю свою маленькую квартирку по меньшей мере два раза в неделю. Поэтому полиция в ходе расследования не смогла найти ни одного отпечатка пальцев мистера Покока. Милая Люсиль. Он все еще вспоминал о ней с какой-то нежностью, отчасти потому, что она сама так замечательно помогла ему убить ее. Не считая, конечно, этой истории с розами. Именно ее любовь к розам и удовольствие дарить ей эти розы, выращенные в его собственном маленьком садике, едва не погубили его.
С его первым убийством не было таких сложностей. И почти никаких переживаний. Он почти забыл, почему сделал это. Элис была очень заурядной женщиной. Он с трудом мог вспомнить ее лицо.
Как бы там ни было, однажды, когда он был у нее, она нахально заявила ему, что не верит ни единому слову из того, что он рассказывал ей о своей прошлой жизни. Она была уверена, что он никогда не был секретным агентом; что во время войны его не забрасывали с парашютом в оккупированную Францию; что он не попадал в руки нацистов и не претерпевал ужасных пыток. Она была совершенно права, и, в сущности все это не имело никакого значения. Однако ее отказ разделить с ним его фантазии показался ему таким грубым оскорблением, что на мгновение он почувствовал, что просто не может позволить ей жить дальше. Потом он тихо ушел... Оказалось, что никто не заметил ни его прихода, ни ухода, и ее смерть стала одним из нераскрытых дел в полицейских архивах. Это было так банально; он ощутил почти разочарование.
Но случай с Люсиль был совершенно другим. Во-первых, он сильно привязался к ней. Она была добродушной женщиной, с ней всегда было легко, и она никогда не ждала других подарков, кроме цветов, которые он приносил ей. Но в один прекрасный день, когда он случайно упомянул о том, как сильно ему хотелось бы, чтоб она увидела, как эти цветы растут у него на клумбе, однако из-за его жены-инвалида, которая очень страдала бы, узнав о существовании Люсиль, это невозможно, она разразилась хохотом. Она сказала, что ему незачем рассказывать ей подобные небылицы. И он внезапно понял, что она никогда не верила в существование хрупкой, прелестной, во всем зависящей от него жены, которую он одаривал сокровищами своей преданности и самопожертвования. Опасная ярость, которая овладевала им всего несколько раз в жизни, словно фейерверк, вспыхнула в его мозгу. Ему показалось, что она смеется над ним не только потому, что он сказал ей ложь, в которую она никогда не верила, но и потому, что он попытался убедить ее, будто какая-нибудь женщина, пусть даже несчастная калека, смогла бы настолько полюбить его, чтобы выйти за него замуж. Его руки, хоть маленькие и белые, однако ставшие сильными благодаря работе в саду, сомкнулись у нее на шее. А когда он отпустил ее, она была уже мертва.
К счастью, в тот день он не оставил отпечатков пальцев в ее квартире. Однако его видела женщина, жившая этажом ниже. Поднимаясь наверх, он встретил на лестнице эту пожилую особу в очках, и даже обменялся с ней парой слов о погоде. И оказалось, что ей особенно запомнился букет восхитительных роз сортаКроненбург*, который был у него в руках. Насыщенный бархатисто-алый оттенок цветков, мягкая золотистость нижней стороны лепестков, и восхитительный аромат приковали ее внимание. Событие это, как он поначалу решил, должно было стать для него катастрофой, но в действительности обернулось необыкновенной удачей. Впоследствии она смогла подробнейшим образом описать розы, но лишь в самых общих чертах обрисовать мужчину, который их нес. И на опознании, в котором ему пришлось принять участие (полиция нашла его по номеру телефона, нацарапанному в записной книжке Люсиль), эта женщина указала на другого мужчину. Таким образом, у полиции не оказалось других улик против него, кроме телефонного номера и куста роз в его саду. Однако полдюжины его соседей, увидев, как прекрасен этот сорт роз, вслед за ним тоже посадили в своих садах Кроненбург. И поэтому убийство Люсиль, так же как и смерть Элис, осталось неразгаданной тайной.Роза Кроненбург (лат. Rose Kronenbourg) — ремонтантный сильнорослый гибрид с крупными бутонами. Он был выведен в 1966 году селекционером Сэмюэлем Мак Гриди, который использовал для его создания сорт Глория Дей (Gloria Dei), также называемый Пис (Peace).
Но только не для полиции. Мистер Покок был уверен в этом. И даже теперь, спустя два года, порой при мысли, что он может выдать себя каким-нибудь словом или необдуманным поступком (хотя, бог знает, что могло бы причинить ему вред, когда прошло уже столько времени), ужас пронзал его, словно нож. Он больше никогда никого не убьет. В этом он был уверен.
Однако так было лишь до тех пор, пока миссис Холройд не отказала ему.
Понадобилось довольно много времени, чтобы он пришел к выводу, что жениться на ней — вполне разумная идея, хотя и был уверен, что она проявляла к нему интерес с той минуты, как поселилась в маленьком домике недалеко от него. Она была вдовой и думала, что он тоже вдовец. И она часто говорила ему, что чувствует себя одинокой, с тех пор как ее муж неожиданно скончался, и сочувствовала мистеру Пококу из-за его одиночества. Она восхищалась его садом и советовалась с ним, как ухаживать за ее собственным садиком. Она была в восторге от цветов, которые он дарил ей. А когда он заболел гриппом, она ходила для него за покупками, готовила ему соблазнительные кушанья и приносила книги из библиотеки. И она ненавязчиво дала ему понять, что ее доходы более чем достаточны.
— Я не богатая женщина, — бывало, говорила она, — но благодаря предусмотрительности моего дорогого мужа у меня нет финансовых проблем.
Поэтому мистеру Пококу казалось совершенно очевидным, что чувства миссис Холройд не вызывают сомнений, и ему нужно только разобраться в своих собственных. Хочет ли он жениться? Сможет ли он вынести общество другого человека после долгих лет такого приятного уединения? Не будет ли его раздражать необходимость соразмерять свои привычки с желаниями кого-то еще? Однако он старел, и этот случай с гриппом показал ему, как важно, чтобы рядом был кто-то, кто сможет позаботиться о нем. А с финансовой точки зрения выгоднее было жениться на миссис Холройд, чем нанять дорогостоящую экономку. К тому же для своих лет она прекрасно выглядела и замечательно готовила. Если ему нужна жена, он едва ли найдет лучшую.
Разумеется, у нее были свои маленькие причуды, которые он с трудом выносил. Она любила петь, занимаясь домашними делами. Если ему придется слушать ее пение в его собственном доме, не смягченное расстоянием, это может довести его до безумия. Она любила поболтать с соседками, вместо того чтобы сохранять вежливую отчужденность, как это делал он. У нее была страсть к искусственным цветам. Все вазы в ее доме были наполнены ими с полным пренебрежением к временам года. Тюльпаны и нарциссы цвели у нее в сентябре, а хризантемы — в мае. Она всегда с очаровательно раскрасневшимся лицом благодарила его за цветы, которые он приносил ей. Однако он сомневался, что она действительно может отличить живые цветы от их безжизненных подобий. Но, без сомнения, он сумеет тактично исправить эти ее маленькие недостатки. В один ясный июньский вечер он попросил ее выйти за него замуж.
— О, мой дорогой мистер Покок, — ответила она, — как мне выразить мои чувства? Я так тронута, это такая честь! Но я никогда больше не смогу выйти замуж. Это было бы нечестно по отношению к вам, потому что я никогда не смогу полюбить никого, кроме моего бедного Гарольда. А наша дружба, такая, какая есть, бесконечно драгоценна для меня. Мне кажется, нам необычайно повезло, что мы, в нашем возрасте, нашли такую дружбу. Менять что-нибудь значило бы лишь все испортить. Так не мудрее ли будет сохранить то сокровище, которое у нас есть? Разве мы сможем дать друг другу больше, чем уже даем?
Он принял ее отказ с достоинством и выпил предложенный ею стакан хереса. Особенно мучила его уверенность, что она догадывалась, что он собирается предложить ей руку и сердце, и заранее отрепетировала свою маленькую речь. Ему противно было думать, что все ее мелкие любезности были просто мелкими любезностями, которые она оказывала ему лишь по доброте душевной, а не из-за страстного желания завладеть им. Когда он глядел на нее и пил ее великолепный херес (который у него во рту словно превращался в уксус), он внезапно ощутил такую дикую злобу и ненависть, каких не чувствовал уже давно. Однако он сумел похлопать ее по плечу, сказать, что, конечно, ничего между ними менять не нужно, и спокойно отправился домой.
Ему было ясно, что самое главное сейчас — не позволить ей догадаться, как подействовал на него ее отказ. Она ни за что не должна узнать, как сильно ранила его. Все должно выглядеть как раньше. На самом деле их отношения были отравлены навсегда. Но, чтобы спасти свою гордость, он должен скрыть это от нее.
Два дня спустя он появился у нее на пороге, улыбающийся, с великолепным букетом роз Кроненбург. Она ахала над ними как-то особенно радостно, и на ее лице отразилась такая нежность, какой он никогда прежде не видел. Он подумал, что она так счастлива потому, что воображает, будто, унизив его, так мало заплатила за это. Вытащив какие-то пластмассовые ирисы и веточки форзиции из одной из ваз, стоявших в гостиной, она прошла на кухню, наполнила вазу водой, принесла ее обратно и принялась расставлять в ней розы.
До этой минуты он не собирался действительно убивать ее. Он сумеет найти способ, чтобы заставить ее страдать так же, как она заставила страдать его. И когда его руки потянулись, чтобы схватить ее шею, и он увидел на ее лице сначала полнейшее изумление, сменившееся затем ужасом, он был почти так же удивлен и напуган, как и она. Когда она упала на пол к его ногам, и он бросился к двери, его всего трясло.
Но тут он кое-что вспомнил. Розы Кроненбург. Однажды он уже едва не погиб из-за них. На этот раз он про них не забудет и не оставит их здесь. Вернувшись обратно в гостиную, он вытащил розы из вазы, запихал в нее снова пластмассовые цветы, и, задержавшись лишь на мгновение у входной двери, чтобы убедиться, что на улице никого нет, направился к своему дому. Войдя внутрь, он отшвырнул розы, словно на них была какая-то ужасная зараза, и оставил их на некоторое время лежать там, где они упали, не в силах дотронуться до них. Как же он был взбешен, когда принес их этой женщине! Как легко они могли погубить его! Он выпил немного виски и выкурил несколько сигарет, прежде чем смог заставить себя поднять их. Он поместил их в серебряную вазу, которую поставил на книжную полку у себя в гостиной. Там они выглядели совершенно естественно и никак не могли выдать его. Было очень важно, чтобы все выглядело естественно.
На следующее утро, когда к нему зашли двое полицейских, он, разумеется, был готов к этому. И он был совершенно уверен, что его поведение тоже было абсолютно естественным. Однако он встревожился, поняв, что уже встречал одного из них раньше. Это был суперинтендант, сообщивший ему, что его соседку, миссис Холройд, нашла задушенной приходящая прислуга. Потом он спросил мистера Покока, когда тот видел ее в последний раз, и где он провел вечер. Мистер Покок полагал, что подобные вопросы были неизбежны, но ему не понравилось, с каким почти издевательским видом этот человек смотрел на него.
Потом, глядя на розы в серебряной вазе суперинтендант с восхищением заметил:
— Они прекрасны! Это Кроненбург, не так ли?
— Да, — ответил мистер Покок. — Из моего сада.
— У меня, в моем саду, тоже есть такие, — сказал суперинтендант. — Ничто не сравнится с прекрасной розой, не правда ли? Однако ваша соседка, похоже, совсем не заботилась о живых цветах. Ее интересовали только искусственные. Меньше хлопот, разумеется. Но знаете, вот забавная вещь — она поставила некоторые из них в воду. Несколько ирисов и форзицию. Они стояли в вазе с водой, словно были живыми. Вы не находите, мистер Покок, что эти старания поддержать иллюзию зашли чересчур далеко? Вот разве что сначала там были какие-то настоящие цветы, такие как, к примеру, ваши розы. Вы ведь обычно приносили ей цветы, не так ли, мистер Покок? Она рассказывала об этом соседям. Хотя на самом деле вам уже следовало бы знать, что не стоит брать их с собой, когда вы собираетесь совершить убийство. -
Рассыпанный пепел
В такие ночи, как сегодняшняя, примерно в начале декабря, я часто страдаю от приступов депрессии или бессонницы и начинаю блуждать по дому, чувствуя, что должна что-то сделать, но не понимая, что именно. Я хочу сигарету — хотя обычно не курю. Мне хочется безо всякого повода позвонить друзьям.
Муж знает об этом и не вмешивается. Он очень добрый и терпимый человек. Он знает, что такие приступы случаются в годовщину того вечера, когда умер мой отец. Так я называю это в мыслях. Я думаю и говорю, что отец умер, упокоился, ушел, покинул нас, — и мой муж делает то же самое. Но мы оба, конечно, понимаем, что просто не хотим произносить "ночь, когда он погиб, когда его убили". Время не смягчает этих жестоких слов. Уж если на то пошло, со временем они звучат еще жестче. Спустя двадцать лет я избегаю их сильнее, чем вначале, когда они были неизбежными.
Сегодня вечером у меня особенно плохое настроение — вот почему я начала описывать некоторые свои чувства. Я бы хотела избавиться от них в прошлом — возможно, описание этому поможет. Я слышала это от некоторых людей — во всяком случае я никогда не пыталась раньше этим заняться. Я пробовала путешествовать, пить, даже принимать наркотики. Но призраки все равно возвращаются — и пока они со мной, они дотла разрушают мою радость жизни, которую я ценю больше всего.
Я знаю, что частично это происходит из-за погоды. Весь день казалось, что собирается пойти снег — а он так и не выпал. Так было и в тот день двадцать лет назад. Примерно на полпути между рассветом и полуднем потемнело, и, приступив к обычной домашней работе, я включила свет во всех комнатах. Отец крикнул мне из своей спальни снизу, что это моя очередная придурь, — но я и вправду не могу находиться в темноте. Тяжелые тучи быстро заволакивали небо. Оно стало темно-серым, словно старая грязная подушка, которая вот-вот разорвется. И перья разлетятся по всему небу.
Перья...
Я снова начинаю о них думать...
Прошлой ночью они мне приснились. Во сне я купила новую шубу. На самом деле у меня их четыре: леопардовая, которую муж подарил мне на день рождения; старая норковая — одна из первых вещей, которые я купила себе, как только получила наследство; короткий черный элегантный жакет из тюленьего меха — ему два года; и шубка из ондатры, которую отец позволил мне приобрести много лет назад и которую я до сих пор надеваю, когда бегаю по магазинам. А вчера во сне я купила пятую шубу. Не знаю, что это был за мех — но он был темно-серым, мягким и шелковистым. А придя домой, я обнаружила, что это вовсе не мех, а перья. Сплошные перья. Почему-то это было ужасно. Сон превратился в кошмар, и я проснулась, дрожа от страха.
За несколько лет до смерти отец перебрался в комнату внизу. У него был артрит, больное сердце, проблемы с почками и он пережил микроинсульт. Доктор с усмешкой говорил, что у мистера Гринбенка шесть заболеваний, которые могут прикончить его, — но, похоже, он переживет нас всех. Отец, наполовину беспомощный, бешено цеплялся за жизнь, приходя в ярость, когда ему казалось, будто что-то угрожает его безопасности.
Я думала, что, пребывая в таком состоянии, с радостью бы умерла, но его жалкая ущербная жизнь была ему поразительно дорога.
Отец с первого дня считал, что мое замужество угрожает ему. Я клялась, что не оставлю его, пока он нуждается во мне, что Гарри будет жить у нас, — а значит, отец получит больше помощи, чем прежде, а не меньше. Он лишь пробормотал несколько гадостей, которые так любил, и насмешливо спросил: неужели я не понимаю, что Гарри сделал предложение только ради денег, которые я когда-нибудь получу, и что его ничуть не заботит бедный старый тесть?
Возможно, мне следует объяснить, почему отец не мог помешать мне получить деньги в наследство. Я уверена, что он помешал бы, если бы мог. Но они принадлежали моей матери, и отец мог распоряжаться ими лишь при жизни, а после смерти они переходили ко мне. Порой я думала, что именно завещание матери заставляло его цепляться за свое унылое существование вновь и вновь. Ведь после смерти он утрачивал всякую власть надо мной, которой обладал при жизни, — а это была единственная власть, которая оставалась у него над кем-то. Когда-то отец был главой большой фирмы, производящей шерстяные изделия, и обладал властью над множеством людей — но теперь его мир ограничивался мной и несколькими старыми друзьями, которые иногда заходили навестить его.
Мне было тридцать два года, когда я вышла за Генри. Моя мать умерла, когда мне было пятнадцать, так что у отца было семнадцать лет, чтобы воздействовать на мой характер. Гарри был на три года моложе меня. Он был невысокого роста, и поэтому казался мне ужасно привлекательным. Сама я высокого роста, большая и нескладная, как мой отец, но другого сложения, а мои тонкие волосы — каштаново-мышиного цвета. Добродушная прелесть, которой, говорят, я обладаю сейчас, никак не проявлялась в то время, так как я была настолько не уверена в себе, насколько может быть молодая женщина.
У Гарри были светлые курчавые волосы и синие глаза. Он двигался быстро, энергично и решительно. У него было множество привычек, которые я считала сугубо мужскими и оттого находила особенно привлекательными. Он был ужасно неаккуратен. Если Гарри открывал ящик, чтобы что-то достать оттуда, он никогда не давал себе труда потом закрыть его и предполагал, что кто-нибудь сделает это за него. Если его рубашка, носки или трусы были испачканы, он просто бросал их на пол, зная, что я их подберу и брошу в бельевую корзину. Он был заядлым курильщиком и промахивался мимо пепельницы. Но он никогда не говорил чего-нибудь оскорбительного или злобного. Он щедро делал подарки. Что до женитьбы на мне ради денег — у него была прекрасная работа в большом агентстве по недвижимости, и, поселившись у нас, он сразу же начал оплачивать все счета, чтобы, как он сказал, избавить меня от унижения просить деньги у отца. Гарри также оплатил свадебное торжество, что, разумеется, следовало сделать моему отцу.
Отец не пожелал ни приходить на свадьбу, ни устраивать прием у нас дома.
— Я не хочу, чтобы куча людей, которых я сроду не видел, ели, пили и устраивали шумное сборище. Мне от этого нехорошо. Если ты хочешь затеять такую чертовскую чушь — затевай, я тебе не могу помешать. Но на меня не рассчитывай.
Поэтому мы устроили прием в отеле, и там я впервые увидела брата Гарри Алека.
Если и было единственное, что мне сразу же не понравилось в Гарри, — это был Алек. Понимаю, что это звучит абсурдно. Брат человека — это не его часть. Но иногда такое случается — Гарри и Алек являлись больше частями друг друга, чем обычно бывают братья. Их родители умерли, когда они были детьми, оставив их в сильной нужде, и Алек, который был на пять лет старше Гарри, заботился о нем до тех пор, пока тот не встал на ноги. Поэтому я изо всех сил старалась разглядеть в Алеке лучшее. Наверняка оно в Алеке было, если Гарри так любил его. Он привык советоваться с Алеком обо всем. Он цитировал слова Алека, звонил ему, а если дело касалось особенно сложных проблем, касающихся работы, — время от времени ездил к нему в Лондон и оставался там на ночь. Потому что Алек трудился в головном офисе той же фирмы, что и Гарри, и помогал ему в работе.
Но Алек был шумным, вульгарным, с красным лицом, толстой шеей, дородным, с маленькими хитрыми глазками под толстыми веками с еле заметными ресницами, и считал, что очень смешно быть грубым и спрашивать, не могу ли я найти ему такую жену, как я, — богатую и красивую. Он был пьян, когда спрашивал это, и я видела, как смущался Гарри, — он никогда не считал меня красавицей. Поэтому я делала вид, что довольна, и обещала сделать все, что в моих силах. Алек в ответ хватал меня одной рукой, целовал в щеку и приговаривал: "Такой, как ты, больше нет, лапочка!"
У нас с Гарри не было медового месяца, так как отца нельзя было оставлять надолго одного, поэтому мы не могли уехать. Миссис Кларк, ежедневно приходившая к нам, соглашалась остаться вечером, если мне нужно было уйти в женскую гильдию или на концерт, но не могла присматривать за отцом в течение всех выходных. Поэтому сразу после окончания торжеств мы вернулись домой и начали нашу совместную жизнь. В понедельник с утра Гарри отправился в офис, а я продолжала готовить, как обычно, и заниматься прочей домашней работой. Миссис Кларк, которая приходила каждое утро на три часа, была слишком старой, а дом — слишком большим и неудобным, чтобы она могла сделать все одна. Гарри однажды спросил меня, не хочу ли нанять кого-нибудь помоложе, а то и горничную с постоянным проживанием, — но я знала, как такой переворот подействует на отца, особенно после шока моего замужества, поэтому сказала, что счастлива оставить все как есть.
И я вправду была безмерно счастлива. Я никогда не возражала против готовки и домашней работы. Меня не учили ничему больше. А выходила из дому я так редко, что если бы мне было нечем заняться, я бы давно умерла от скуки. А теперь у меня был Гарри, чтобы готовить ему и заботиться о нем, и впервые в жизни я испытала восторг оттого, что мою еду хвалили, когда я старалась приготовить что-нибудь особенно вкусное, или меня благодарили за всякие мелочи, которых я даже не замечала и о которых не помнила.
Как же многому научил меня Гарри! Благодаря ему я познала собственное тело. Дожив до тридцати двух лет, я не знала, для чего предназначено тело. Словно жизнь заново преподнесла мне этот дар. Я обнаружила также, как двое могут наслаждаться друг другом, просто беседуя за бутылкой доброго шерри по вечерам, рассказывая друг другу то, чем — я даже в мечтах не могла вообразить — можно делиться с кем-нибудь. Если это возможно для вас — вам больше не нужно никаких друзей. Я также была рада слышать не что я неумеха, ленивая и равнодушная к чужим страданиям, а что я слишком добрая даже в ущерб себе, нежная, милая и нуждающаяся в заботе.
И я просто была в восторге оттого, что вижу Гарри дома — невысокого, подтянутого, живого, мужественного. Мне нравилось просто сидеть и смотреть на него и думать лишь о нем.
Трещинами в моем счастье были Алек и скрытая война между Гарри и моим отцом. Война превратилась в скрытую из явной, как только отец обнаружил, что Гарри ему не отвечает. Сарказм, злобные намеки и гневные тирады Гарри воспринимал со странной усмешкой — словно восхищался шуткой, которой не мог поделиться ни кем, даже со мной. Затем он спокойно выходил из комнаты и продолжал заниматься своим делом. Поэтому Гарри всегда оставался победителем, а отец начал избегать споров, которые он наверняка проиграет.
Гарри пытался обучить меня этому приему. Он говорил:
— Человек на костылях или в инвалидной коляске не может гоняться за тобой по всему дому. Так почему, когда он раздражает тебя, просто не выйти из комнаты?
— Но он не часто просто раздражает меня, — отвечала я. — Все гораздо сложнее.
— Я понимаю, — согласился Гарри. — Он тебя запугивает, дразнит, гипнотизирует, — а ты считаешь, что должна оставаться и терпеть это. Но ты вовсе не обязана. У него нет власти над тобой. Это у тебя есть власть над ним. Ты можешь оставить его в любое время, если захочешь, и в глубине души он понимает это.
— Но он по-своему любит меня. Я не могу причинить ему боль.
— Не думаю, что он любит тебя или вообще кого-нибудь любил. Он думает только о себе.
— Он обожал мою мать. Он ее просто боготворил.
— Это он сейчас так говорит. Но вряд ли она бы подтвердила это, если бы ты была достаточно взрослой, чтобы спросить ее.
Эта мысль так напугала меня, что я замолчала. Мое отношение к отцу основывалось на предположении, что он всем сердцем любил мою мать, и ее ранняя смерть изуродовала его прекрасный великодушный характер. Ведь когда-то она сочла его достойным любви, и я помнила об ее нежности, жизнерадостности и обаянии.
— Ты не думала, — продолжал Гарри, — что он женился на ней ради денег и поэтому считает, что я тоже женился на тебе ради твоих денег?
Я тупо глядела на него. Я медленно соображаю, и мне требовалось время, чтобы переварить эту мысль.
Он рассмеялся.
— Думаешь, я не знаю, какого он мнения обо мне? Он высказал его мне при первой же встрече. Его не волнуют всякие тонкости.
— В любом случае, — ответила я через минуту, — я не могу оставить его. Я сказала это тебе перед тем, как мы поженились.
— О, боже, я не говорю о том, чтобы оставить его! Уйти из дому, переехать. Я понимаю, что ты чувствуешь, и для меня это нормально. Нет, я имею в виду: когда он говорит то, что достает тебя до глубины души и заставляет бледнеть, — просто встань и выйди из комнаты. Позволь ему повариться в собственном соку. Я хочу сказать только это.
— Понятно, — расслабленно ответила я, так как боялась спорить с ним.
— Но ты никогда так не поступишь, — улыбнулся Гарри и легонько ущипнул меня за щеку. — Тебя чертовски легко обмануть. Ты словно просишь, чтобы тебя растоптали. Но мне такого никогда не позволяй. Если ты когда-нибудь заметишь, что я топчу тебя, — вопи во весь голос.
Самое забавное — мне хотелось завопить (хоть я никогда не позволяла себе этого) из-за его преданности Алеку, за которого он цеплялся даже после женитьбы, из-за его зависимости или как там она называлась. На самом деле я не совсем понимала, который из братьев больше зависит от другого. Когда-то старший поддерживал младшего, но сейчас Гарри был настолько умнее и проницательнее, что мне казалось: им пора поменяться местами. В любом случае я ненавидела их отношения. Я бы ненавидела их, даже если бы мне нравился Алек. Я хотела, чтобы Гарри был полностью моим.
Я часто чувствовала себя нервной и беспокойной во время их телефонных разговоров. В них не было ничего тайного. Телефон стоял в гостиной, а Гарри удобно сидел на диване, задрав ноги и прижав трубку к уху, куря одну сигарету за другой и бросая пепел на ковер. Иногда они обсуждали происшедшее в офисе — например, ошибку, которую допустил Гарри и которая его беспокоила. Иногда — слова клиента. Иногда — ничего конкретного. И пока я слушала, во мне пробуждалось дикое чувство, похожее на ненависть. Не к Алеку — это было бы глупо, но понятно — а к самому Гарри. Я сидела на стуле тихо и неподвижно, пытаясь подавить это чувство. Оно меня пугало.
Еще хуже я себя чувствовала, когда Гарри уезжал в Лондон к Алеку. Он никогда не оставался там больше, чем на одну ночь, и всегда звонил мне вечером из квартиры Алека и долго беседовал со мной так же, как с Алеком. Но каждый раз, когда он уезжал, меня охватывало жуткое иррациональное предчувствие, что я больше никогда его не увижу. Я не показывала этого. Я спокойно целовала его на прощание, бесстрастно и автоматически просила вести машину осторожно, возвращалась в дом и закрывала дверь раньше, чем автомобиль исчезал из виду. А затем начинала сходить с ума.
Я не садилась и не плакала, хотя мне часто этого хотелось. Я металась по дому и выполняла всевозможные бесполезные действия: раскрывала ящики, передвигала мебель — и, наверное, что-нибудь разбивала. Я полировала, скребла, мыла окна, заново расставляла книги и готовила столько еды, чтобы ее хватило минимум на три дня. Я должна была успеть до вечера, когда раздастся телефонный звонок Гарри.
Это происходило около десяти. Если звонок случался позже — мне приходилось идти наверх в свою комнату (потому что отец начинал капризничать, если слышал мои шаги внизу, когда он собирался лечь спать) и снимать трубку у себя. А так меня, наконец, оставляли в покое. Я могла принять снотворное и тихонько уснуть. Обычно я не принимала снотворного, но когда Гарри не было дома, а я была одержима и расстроена предчувствием беды, — я принимала три грана амитала натрия и спокойно засыпала.
Теперь это кажется смешным. Я не могу представить, что бы могло заставить меня вести себя так сейчас.
Я не боялась какой-то конкретной беды. Это напоминало детский страх темноты, когда особенно ужасным казалось сборище неведомых опасностей. Я не видела, о господи, я и близко не представляла, что действительно произойдет!
Это случилось в начале декабря, когда Гарри направился к Алеку в Лондон с очередным визитом. Стоял жуткий холод. Небо было весь день грязно-серым, и угрожал пойти снег. Казалось, небо опустилось так низко, что легло почти на крыши домов. На тропинках в саду лежал черный лед.
После ланча Гарри поехал в Лондон. Поездка занимала шесть часов. Я предупредила Гарри, что дороги опасны, и как всегда попросила его вести машину осторожно. Он похлопал меня по плечу, поцеловал и сказал, чтобы я не волновалась. "Разве я не хороший водитель?" — спросил он, и я согласилась: вправду, хороший. На самом деле я боялась не дорожной аварии. Я не воображала, что машина угодит в занос, столкнется с другой, загорится или угодит под грузовик на скорости семьдесят миль. Я не боялась чего-то настолько конкретного. Когда он сел в машину, я вернулась в дом и тихонько закрыла за собой дверь.
Вскоре мне захотелось, чтобы пошел снег, — хоть и неприятно ехать сквозь метель — потому что в ожидании снега чувствовалось странное напряжение. Казалось, что время остановилось и ни день, ни одинокая ночь никогда не закончатся. Но к тому времени, как совсем стемнело и я начала бродить по дому, отодвигая занавески, снег еще не выпал. Ветра тоже не было — лишь молчаливый безжизненный холод, проникший в наши большие старомодные комнаты через щели в плохо пригнанных ставнях и пустых стеклянных панелях.
На обед мы с отцом ели стейк и пудинг с почками, за которыми следовали яблочная шарлотка, заварной крем, печенье и сыр. Затем отец на костылях прохромал в гостиную, чтобы немного посмотреть телевизор прежде, чем пойти спать. Вымыв посуду, я присоединилась к нему. Но мне не понравилась передача, которую он смотрел, на меня снова напало дьявольское беспокойство, и я вернулась на кухню.
Я испекла шоколадный торт, который Гарри особенно любил. Я добавила в него бренди. Я приготовила целую кастрюлю цыплят с грибами, которую, как я думала, мы съедим на обед завтра вечером. Я приготовила сливовый пирог, используя сливы, которые заготовила летом, и абрикосовый торт. К тому времени кухня чудесно согрелась огнем от плиты и наполнилась дивными ароматами, — но было без десяти десять, а Гарри еще не позвонил.
Я полистала одну из своих кулинарных книг в поисках нового рецепта. Внезапно я решила, что мне надоело готовить и нужно вместо этого почистить ковер в гостиной пылесосом и как следует отполировать мебель. Я знала, что отец скоро пойдет спать и гостиная будет свободна.
Сначала я занялась мебелью — она была из старого красного дерева, и результаты полировки очень заметны. Мне очень нравилось заниматься этим. Затем я достала пылесос и начала чистить ковер. Я еще не закончила, когда дверь отворилась и мой отец, в халате и на костылях, появился на пороге.
На его лице было выражение злости. Он мне что-то говорил, но я не слышала из-за шума пылесоса. Я выключила пылесос, и в тишине звук его голоса взорвался криком.
— Ты сошла с ума! — заорал он на меня. — Ты это знаешь? Этот человек довел тебя до помешательства. У тебя всегда была слабенькая голова, но сейчас ты стала совсем ненормальной. Как ты думаешь, который час?
— Прости, — ответила я. — Я об этом не подумала. Я всегда ужасно волнуюсь, когда Гарри уезжает. Я к этому никогда не привыкну.
— Ты могла давно привыкнуть к этому до замужества. Ты тогда не возражала оставаться одна. Ты не включала эту чертову машину среди ночи.
— Сейчас вовсе не середина ночи, а только половина одиннадцатого. Я не думала, что ты уже собираешься спать.
— Кто тебе сказал, что я собираюсь спать? Я хочу спокойно почитать. Я не могу читать, когда шумит эта гнусная штуковина.
— Но ты всегда читаешь газету, когда миссис Кларк включает пылесос по утрам.
— Конечно. Я знаю, что она собирается его включить. Я знаю, что дом нужно держать в чистоте, а ты не можешь нанять женщину, которая будет убирать его, стоя на коленях, как это делала твоя мать. Я знаю это, я не сумасшедший. Но всему свое время. В половине одиннадцатого я желаю покоя. Я имею право на покой — даже если у меня больше не осталось прав в этом доме.
— Прошу прощения. — Я привыкла, что половина того, что я говорю отцу, начиналось с этих слов.
— Ах, ты просишь прощения! — Его широкое желтоватое лицо сморщилось, словно он собирался заплакать. Так иногда начинались его приступы жалости к себе, хотя слез он никогда не проливал. — На самом деле ты вовсе не просишь прощения. Ты бессердечна. Ты делаешь это специально, чтобы разозлить меня. Ты знаешь, что мне нельзя злиться. Ты знаешь о моем сердце. Ты знаешь о моих венах. Ты знаешь, что может случиться со мной в любой момент, если я потеряю контроль над собой. И ты говоришь, что просишь прощения!
В такие моменты я обычно молчала. Что-то словно замыкалось внутри меня. Наверняка я побледнела, как обычно в таких случаях (по словам Гарри). Я стояла, вцепившись в ручку пылесоса, и думала о том, что могла бы сделать, если бы у меня был другой характер. Ведь мой большой отец на самом деле был совершенно беспомощным. Он был наполовину безжизненным разрушенным существом, зависящим от моей милости. Он оставался таким годами. Но я стояла молча.
Он начал поворачиваться, неуклюже двигаясь на костылях. Но внезапно остановился и бросил мне загадочный яростный взгляд.
— Ты никогда не поймешь, — сказал он. — У тебя не хватает мозгов понять, а я не умею как следует объяснять. Но я всегда пытался делать то, что для тебя лучше. Я прежде всего думал о тебе. Я обещал это твоей дорогой матери и, видит бог, я стараюсь. Я пытался, как мог, спасти тебя от когтей этого дешевого мошенника, за которого ты вышла, и все еще пытаюсь. Я пытаюсь продолжать жить, хотя я болен и устал, чтобы не дать ему наложить лапу на твои деньги. Потому что ты отдашь ему все до последнего пенни — ты так простодушна. И когда ты это сделаешь — ты его больше не увидишь. Для тебя все будет кончено. Твоей прекрасной мечте наступит конец. Но что толку говорить тебе это?
И тогда я пришла в себя. Этому помогло нападение на Гарри. Я вспомнила, что Гарри говорил мне. Я вытащила шнур из пылесоса, выкатила его мимо отца из комнаты, поставила в шкаф под лестницей и вышла из комнаты.
Отец звал меня, но я не слушала. Я закрыла за собой дверь, легла на кровать и почувствовала, что меня трясет. Но в душе я радовалась. Я победила. Я была одна, испугана, но я победила. Гарри был прав, я всегда могла победить. Когда я услышала, как костыли отца стучат по полу, а он возвращается к себе в комнату, я запихнула в рот стеганое одеяло из гагачьего пуха, чтобы не рассмеяться громко.
Одеяло, наполненное перьями...
Когда я думаю об этом, я вспоминаю шорох розового атласа на губах. Казалось, перья душат меня. Мне хочется, чтобы меня вытошнило.
Около одиннадцати я лежала в кровати и читала, когда телефон позвонил. Я подняла трубку, и оператор сказал:
— Мистер Уиллис вызывает вас из Лондона и хочет, чтобы вы оплатили разговор. Вы согласны?
Гарри всегда так поступал, когда звонил от Алека. Он хотел, чтобы счет приходил нам, а не Алеку.
Я нетерпеливо сказала:
— Да, соединяйте.
Раздался привычный щелчок, затем голос Гарри произнес:
— Дорогая! Прости, что звоню так поздно, но Алек настоял, чтобы я пошел с ним на обед и в театр. Он заранее купил туда билеты, и мы только что вернулись. Как дела?
— Отлично, — ответила я. — Чудесно.
— Как это? — спросил Гарри. — Считается, что дела не могут идти отлично, если меня нет дома. Предполагается, что ты должна беспокоиться. Или раньше я тебя неверно понимал?
— Ты все понимал верно. Я волновалась весь день. Но потом отец начал говорить о тебе, и тогда я просто вышла из комнаты. Он говорил о тебе ужасные вещи, а я просто вышла.
— А вот это и вправду отлично. Я еще сделаю из тебя зрелую женщину. А какие ужасные вещи он говорил обо мне? Те же, что обычно?
— Давай не будем говорить об этом. Я поняла, что вся эта неправда просто не имеет значения. Над ней нужно просто посмеяться. Расскажи мне о спектакле.
— О нем тоже не стоит говорить. Всякая чепуха о том, как люди вскакивают и залезают в постель не с теми людьми, теряют брюки и роняют мебель. Мне было тяжело смеяться, даже чтобы порадовать Алека — хотя ему вроде бы понравилось. Затем он захотел заглянуть в паб на обратном пути, поэтому я задержался.
— Ничего, — сказала я.
— Я думал — может, вообще не стоит звонить. Вдруг ты уже приняла свои таблетки и крепко спишь.
— Я никогда их не принимаю, пока ты не позвонишь. Если бы ты не позвонил, я бы лежала без сна и ждала.
— Тогда прими их сейчас и спокойной ночи.
— Хорошо. А ты будешь осторожно вести машину завтра на пути домой?
— Конечно, как всегда. Доброй ночи, дорогая. Я люблю тебя.
— Ох, Гарри... — Мой голос сорвался, и мне не удалось выразить то, что я хотела сказать. Во мне было столько любви, что я не могла вместить ее в такой мелкий предмет, как телефонная трубка. Я крепко сжала ее, затем глубоко вздохнула и опустила на рычаг. Коробка со снотворным лежала на столике возле моей кровати, рядом стоял стакан воды. Я выпила таблетку, выключила свет, легла на подушку и глубоко заснула.
Будильник разбудил меня в семь часов. Я всегда вставала в это время, чтобы сделать отцу утренний чай. Затем я шла в ванную, одевалась и готовила завтрак. Было еще темно и очень холодно. Подойдя к окну, я ожидала увидеть блеск снега в темноте, но все было черным-черно. Мне это не понравилось. Было что-то жуткое и угрожающее в этой ледяной пустыне. Я надела халат и тапочки, спустилась вниз, приготовила чай и зашла в комнату отца.
Я знаю, что у меня замедленная реакция. Некоторые люди называют это глупостью. Люди поумнее понимают, что я просто медлительна. Мне требуется какое-то время, чтобы сопоставить то, что я вижу, с тем, о чем я думаю и что чувствую. Мне нужно время, чтобы понять. Но в конце концов мне это удается. Правда, удается.
То, что я видела, стоя в дверях, — было белизной. Белым были покрыты кровать, ковер и мебель. Я увидела также зазубренную дыру в оконном стекле, сквозь которую проникал морозный сквозняк. Казалось, вместе со сквозняком проникает снежный буран — хотя снаружи снег не шел. Белизна болталась туда-сюда вместе с ветром, который дул из окна.
Конечно, это был не снег. Это были перья. Кто-то прижал подушку к лицу отца, она порвалась, и метель из перышек разнеслась по всей комнате. Но подушка выполнила свою задачу. Отец был мертв.
Так как я медлительна, я постояла несколько секунд, прежде чем поднос выпал у меня из рук и разбился. Горячий чай выплеснулся мне на босые ноги и лодыжки. Я закричала. Конечно, меня никто не услышал. Через минуту я замолчала. Я не приближалась к кровати, но знала, что отец мертв и я ничем не могу ему помочь. На его лице лежало перо — прямо в ноздре — и он был неподвижен.
Обернувшись, держась за стенку, так как у меня кружилась голова, я дошла до гостиной, упала на диван и схватила телефон.
Я собиралась набрать 999.
Но прежде, чем сделать это, я обнаружила кое-что странное. Это привлекло мое внимание, удивило, заставило застыть и опустить трубку на рычаг.
На ковре, рядом с тем местом, где я сидела, лежала кучка сигаретного пепла.
Она была почти рядом с тем участком, куда Гарри привык ронять пепел во время телефонных разговоров с Алеком. Но я накануне вечером почистила ковер пылесосом. Я в этом была уверена. Я помнила, как отодвигала диван, чтобы очистить это место и пространство вокруг него. Невозможно было забыть передвижение этого старого тяжелого дивана.
А теперь кучка пепла лежала там, где ее быть не могло.
Моим первым порывом было накрыть эту кучку тапком, разровнять и забыть. Навсегда. Но потом у меня заработала голова. Туда медленно начали приходить разные мысли.
Сначала появилась одна: Гарри был здесь вчера вечером.
Этому было трудно поверить — но легче, чем смотреть на кучку пепла и уверять себя, что я ее не заметила во время уборки, или что ее просто не было. Я должна была признать: он был здесь, сидел на том же месте, где сейчас сижу я, и курил сигарету.
Подняв ноги наверх над диваном, я крепко сжала руки, чтобы унять дрожь от стужи в комнате. Но стужа была в моей собственной крови, проникла мне в кости. Меня трясло, и я не могла унять дрожь.
Я начала думать о всяких пустяках: шоколадном торте, который я испекла, шляпе с розовыми перьями, которую купила несколько недель назад, потому что Гарри сказал, что она ему нравится, о золотых запонках, которые я недавно увидела в магазине и хотела купить Гарри, но не стала, так как не была уверена, понравятся ли они ему. Я часто хотела купить ему подарок, но боялась не угодить, так как не доверяла себе. Я не умела выбирать подарки для кого-либо и боялась сделать неудачный выбор, за который меня станут благодарить просто из вежливости. Поэтому я выглядела скупой. Это была отвратительная мысль. Я обдумывала ее некоторое время, пока сидела и тряслась.
Затем я вздрогнула от мысли, что Гарри сидел в этой комнате, курил и говорил со мной по телефону.
Но как можно позвонить по телефону, с которого вы разговариваете?
Мне захотелось выпить чаю. Я пошла на кухню, где стоял еще теплый чайник, который я кипятила для отца. Я налила свежего чая, отнесла чашку в гостиную и снова села на диван.
К тому времени я поняла, как был сделан звонок. Это Алек позвонил из Лондона и попросил оператора переадресовать звонок. А когда я услышала звонок и сняла трубку возле своей кровати, Гарри снял трубку в гостиной. Таким образом мы могли поговорить друг с другом. Он спокойно сидел, ждал звонка и курил, забыв посмотреть, куда падает пепел. Как обычно. Такая знакомая сцена! Я прекрасно представляла ее себе. Откуда он мог знать, что перед тем, как идти спать, я почистила ковер пылесосом?
Беда с мыслями заключается в том, что не всегда можно их прекратить по своему желанию. Я закрыла глаза и прижала к ним костяшки пальцев.
Я подумала: "Отец был совершенно прав. Гарри и Алек спланировали все заранее. Удобная женитьба на одинокой нежеланной женщине, которая разбогатеет после того, как умрет ее старый больной отец. Простое убийство. А потом... Что же они приготовили мне?"
Я открыла глаза и снова поглядела на кучку пепла.
Она была такой маленькой, что первый же вошедший полисмен наступил бы на нее и затоптал в ковер.
Я нерешительно взяла серебряный портсигар, лежавший на столике. Я вытащила сигарету, сунула между губ и закурила. Я закашлялась, когда дым попал мне в глаза и на них появились слезы. До этого я выкурила лишь одну сигарету в жизни. Тогда мне было шестнадцать, и я не хотела отличаться от других школьниц. Но мне не понравилось курить, и я больше никогда не пробовала. Мне и сейчас не нравилось. Но я выкурила сигарету полностью, добавила пепел к кучке на ковре и, рассыпав остаток пепла вокруг — на диване, в пепельнице, — выбросила окурок в туалет и смыла в канализацию, на тот случай, если на нем остались отпечатки моих пальцев или остатки слюны, или другие следы, указывающие, что курил не Гарри.
Затем я набрала 999.
Когда позже полиция опрашивала меня — я сказала, что накануне пропылесосила ковер, но не упомянула о пепле. Но, конечно, они его обнаружили и выяснили, что он означал. И как только у них появились подозрения, они быстро разрушили алиби Гарри. Позже они объяснили мне, как смогли доказать, что Гарри не был в театре и что они не заходили с Алеком в паб, где выпивали, по словам Гарри, и что кто-то видел его в кафе на дороге в Лондон, где ему хватило глупости остановиться и позавтракать рано утром. Он вообще не был в Лондоне накануне. Он прятался в нашем гараже, куда, как он знал, я не заглядывала, так как машина принадлежала ему. Затем, когда он увидел, что в спальне зажегся свет, и понял, что я наконец легла спать, — он спокойно вошел в дом и направился в гостиную ждать звонка Алека. Он специально ждал допоздна, чтобы они с Алеком могли быть уверены, что я буду ждать у себя наверху, а не внизу в гостиной. Поговорив со мной, Гарри зашел в комнату к отцу и задушил его.
Удушение легко принять за естественную смерть, особенно если жертва — старый больной человек, как отец. Конечно, все должно было выглядеть, как естественная смерть. Но подушка разорвалась, и перья разлетелись по всей комнате — поэтому было невозможно скрыть факт убийства. Поэтому Гарри разбил окно — чтобы казалось, что кто-то залез и украл кошелек отца, его золотые часы и цепочку. Видимо, он выбросил их возле какого-нибудь забора по пути в Лондон, куда он отправился сразу после убийства и где он спокойно спал, когда я обнаружила его.
В то время еще вешали.
Вскоре я стала вдовой, причем богатой вдовой. Я продала дом, уехала из него и вернула фамилию Гринбенк, хоть и осталась "миссис". Вначале мне было тяжело, так как у меня не было ни друзей, ни каких-либо интересов, поэтому я много пила и принимала много барбитуратов. А потом я купила себе норковую шубу, о которой уже рассказывала.
Это стало началом освобождения. После этого мне стало легче тратить деньги на себя и делать то, о чем я раньше лишь мечтала. Через год после смерти отца я отправилась в турагентство и заказала кругосветное путешествие. Для него я приобрела массу одежды — совершенно не такой, какую я носила прежде. Я сделала короткую стрижку и покрасила волосы. Я чувствовала себя, словно незнакомка по отношению к самой себе, — приготовившись посетить новые места, познакомиться с новыми людьми и завести новых друзей.
И действительно — перед тем, как мы прибыли на Мадейру, я встретила мужчину, который позже стал моим вторым мужем. Мы сразу притянулись друг к другу и провели много времени в компании друг друга во время путешествия. Конечно, речь не шла о великой страсти. Но мы очень привязаны друг к другу, доверяем друг другу и очень радуемся тому, что мы вместе. Он старше меня на двадцать лет, богаче меня и у него слабое здоровье, поэтому ему требуется хороший уход. Но при моем опыте это несложно. Когда мы встретились, он был вдовцом, и его первая жена, которую он обожал, недавно умерла. Так что в каком-то смысле можно сказать, что я вернулась к тому, с чего начала.
Но разница в том, что мой муж, в отличие от отца, — добрый и внимательный человек. Он хорошо ко мне относится и ценит то, что я делаю для него. Так что в целом я считаю себя счастливой женщиной. Мы вместе уже восемнадцать лет. Лишь иногда, в такие дни, как сегодня, в это время года во мне пробуждаются волнующие эмоции и что-то дикое угрожает моему разуму.
А настоящая трагедия в том, что все это было не нужно. Если бы Гарри любил меня, как он притворялся, что любит, если бы он положился на меня вместо Алека, если бы он доверял мне, — он бы не пытался обмануть меня. Мы бы действовали вместе. Я часто мечтала избавиться от отца и стать, наконец, свободной — и я могла бы выполнить это с помощью инициативы Гарри и моих усилий. И я бы не совершила такой ошибки, как он. Я сообразительнее, чем считают другие. По крайней мере, если бы я использовала подушку, я бы проследила за тем, чтобы она не разорвалась и перья не разлетелись бы повсюду. Смерть сочли бы естественной. Во всяком случае настолько естественной, чтобы обмануть нашего глупого старого доктора, который думал, что мой отец болеет шестью смертельными недугами. Мы бы легко получили свидетельство о смерти. Все прошло бы гладко, и мы бы могли жить счастливо.
Но Гарри никогда не любил меня. Я сосредоточиваюсь на этой мысли, когда в моем сердце пробуждается тяжкая, скрежещущая боль. Все, что он говорил, все, что мы вместе делали, — все это было ложью. Мое счастье было воображаемым. Отец был прав насчет него с самого начала. Гарри сам доказал мне это. Он показал, что я была именно такой, какой считал меня отец. И за это я должна была уничтожить его. - ×
Подробная информация во вкладках
