М. Тодд “В ожидании рассвета”
В ОЖИДАНИИ РАССВЕТА [AWAITING THE DAWN] 1st ed: “The Mammoth Book of Dickensian Whodunnits”, 2007 Переведено по изданию: “The Mammoth Book of Dickensian Whodunnits” by Mike Ashley; Published November 9th 2007 by Carroll & Graf Перевод: Алина Даниэль Редактор: Ольга Белозовская © “Клуб Любителей Детектива”, 22 декабря 2020 г. | 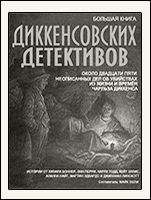 |
! |
Весь материал, представленный на данном форуме, предназначен исключительно для ознакомления. Все права на произведения принадлежат правообладателям (т.е согласно правилам форума он является собственником всего материала, опубликованного на данном ресурсе). Таким образом, форум занимается коллекционированием. Скопировав произведение с нашего форума (в данном случае администрация форума снимает с себя всякую ответственность), вы обязуетесь после прочтения удалить его со своего компьютера. Опубликовав произведение на других ресурсах в сети, вы берете на себя ответственность перед правообладателями. Публикация материалов с форума возможна только с разрешения администрации. ВНИМАНИЕ! В ТОПИКЕ ПРИСУТСТВУЮТ СПОЙЛЕРЫ. ЧИТАТЬ ОБСУЖДЕНИЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ САМОГО РАССКАЗА. |
- Предисловие | +
- Библиография | +
Она сидела, выпрямившись, сцепив пальцы на коленях. Если бы не холод (а может, и не только он), эту женщина с темными волосами, завязанными узлом на затылке, в атласном платье с узкой талией выглядела бы красивой.
Наступила полночь. Час. Два.
Стало холоднее. Казалось, безжалостная стужа придает сил молодой женщине. Сквозь тонкую оконную щель в темноте глядела одинокая звезда. Она светила ярче, чем взгляд тюремщика. Элизабет смотрела, пока звезда не исчезла из вида, потом чуть подвинулась. Казалось, ее скупые движения привлекали такое же внимание, как и само убийство.
“Таймс”, 3 октября, 1868 Главный уголовный суд, 2 октября.
Во время процесса обвиняемая сидела как обычно: неподвижно, словно статуя, не поворачиваясь ни налево, ни направо, — и никто не видел, чтобы она хоть раз взглянула на мужа.
Элизабет смотрела туда, где занимался рассвет. В восемь часов зазвонит тюремный колокол. Священник, комендант, врач и не меньше двух тюремщиков будут сопровождать печальное шествие туда, где свершится то, что вчерашний приговор назвал “ужасным переходом”. Ее костяшки пальцев побелели. Они это так называют? Надвинуть капюшон на чью-то голову, затянуть веревку на его шее, выдернуть табуретку из-под ног — это для них просто переход, перемена обстоятельств?
Ее взгляд скользнул по открытой книге, лежавшей перед ней. Прошедшие двадцать четыре дня (по закону полагалось, чтобы между приговором и казнью прошло три воскресенья) Элизабет оставалось лишь ждать и читать, читать и ждать, ждать и читать. Она обнаружила, что хорошая книга помогает отвлечься от реальности — а она читала книгу, автором которой был Чарльз Диккенс и которая называлась “Большие надежды”.
Название звучало как насмешка.
После того как мистер Диккенс присутствовал при повешении супругов (чье преступление газеты называли хладнокровным, предумышленным убийством), он начал бороться за отмену смертной казни. Хоть он и не добился полного успеха, но не потерпел и полной неудачи. Девятнадцать лет спустя парламент достиг компромисса, объявив казнь мрачным и сокровенным деянием, которое должно совершаться внутри тюрьмы, вдалеке от взглядов беснующейся толпы. И хотя этот закон вступил в силу совсем недавно, газетчики всячески старались разжечь интерес читателей. Несомненно, такое волнующее выражение, как “ужасный переход”, вызовет споры. А споры привлекают внимание и повышают продажи.
Разумеется, насильственная и безвременная кончина Уильяма Лейси была лакомым куском для серьезных газет. Любовь, распутство, деньги, предательство — в этом преступлении все возбуждало интерес. Особенно потому, что множество вопросов остались без ответа.
“Таймс”, 20 августа 1868 Убийство на Лексингтон-плейс. Дело мистера и миссис Маркхем.
Дело Джона Альберта Маркхема, арестованного 14 числа во вторник, и его жены Элизабет Маркхем, арестованной 17 числа в пятницу, возобновлено вчера в полицейском суде Саутс-парка.
В ответ на вопрос суда инспектор Хейвуд сообщил, что арестованным было разрешено поговорить друг с другом. Записано заявление Маркхема: “Мне нечего сказать моей жене”. Миссис Маркхем произнесла: “Я не хочу говорить ему ни слова”. Сцена заняла около двух минут.
В 11 часов арестованные, отрицавшие выдвинутые против них обвинения, заняли места на скамье подсудимых. Маркхем, которого ввели первым, сел справа. Миссис Маркхем постаралась сесть как можно дальше от мужа и не взглянула на него ни разу за весь день.
Все любят загадки и тайны, они украшают первую полосу.
Все, кроме инспектора Хейвуда, который предпочитал их разгадывать.
— До вашей свадьбы в июне этого года, миссис Маркхем, вы работали у сэра Генри Джеймса Вильтона, который, — он посмотрел в свои записи, — был углепромышленником.
(И который выкачивал деньги на севере, чтобы жить в роскоши на юге, и выбрасывал больше пищи за неделю, чем его шахтеры зарабатывали за месяц.)
— Да, это так.
Инспектор Хейвуд. При этом имени представляешь себе высокого полицейского, может быть, худого и костистого, с густыми темными волосами и взглядом, пронзительным, словно сверло. А на самом деле его челка была приглажена, он был тучным, ростом ниже Элизабет, и от него пахло карболовым мылом. Лишь сверлящий взгляд соответствовал ее ожиданиям.
— Где вы служили в качестве гувернантки дочери сэра Генри?
— Пруденс. — Более неподходящего имени для избалованной, неуклюжей девочки-подростка Элизабет не могла себе представить. Уже в двенадцать лет она была такой толстой, что невозможно было понять, где кончалось лицо и начинались плечи. Что за парадокс — назвать ее в честь добродетели воздержания в кругу, где умеренность была чем-то сказочным.
Хейвуд снова взглянул на записи.
— Теперь, прежде чем мы перейдем к землевладельцу и ростовщику из Стретфорда, спрятанному в негашеной извести под полом вашей кухни, миссис Маркхем, — может быть, вы будете добры объяснить, как гувернантка состоятельного аристократа могла познакомиться с таким человеком?
Элизабет оглядела маленькое, грязное, низкое помещение, служившее инспектору кабинетом. Окно возле потолка было заляпано грязью, внизу на мостовой слышались плевки, порой подходила собака и обнюхивала стекло.
— Мистер Лейси покупал ботинки ручной работы у Нортона, — объяснила она. — Эта фирма поставляет изделия сэру Генри и его семье.
Он хмыкнул.
— Хотел бы я позволить себе тоже покупать там обувь.
— Как и другие жители Дурхема.
— Гм…
Это “Гм”, подумала она, говорит о том, что он мечтает стать старшим инспектором, даже суперинтендантом. Высокий рост вряд ли влияет на карьеру. А вот раскрытие преступления может стать хорошим трамплином.
— Значит, вы познакомились с Вильямом Лейси, когда заказывали туфли для себя?
Элизабет улыбнулась ему со смешанным чувством симпатии и насмешки.
— Как и полицейский, гувернантка не может позволить себе туфли ручной работы.
Ей не только скудно платили — ей не доставалось ни рыбы, ни курицы. Ее положение было выше, чем у слуг, и ниже, чем у членов семьи, и она не могла общаться на равных ни с теми, ни с другими. Можно ли представить себе более одинокую, холодную и печальную жизнь? Пока что ее преимуществом была молодость. Но если не позаботиться о себе — ее ждала участь нищей старой девы.
— Я впервые встретилась с мистером Лейси, когда заказывала для Пруденс сапоги для верховой езды.
Обычно Нортон сам присылал их. Но маленькая пухлая ножка Пруденс росла слишком быстро, и в один прекрасный день оказалось, что ей не в чем кататься на уже оседланном пони, ожидавшем во дворе, — все сапоги ей жали.
Это случилось в субботу — выходной день Элизабет. Обычно в этот день она налаживала связи, раскидывая сети в поисках мужа. Но в тот раз она рассудила, что, если сама привезет сапоги, Пруденс будет меньше капризничать. Кроме того, она сможет проехаться в карете сэра Генри с лошадьми в плюмажах и золотым гербом на двери (что само по себе приятно) и заодно полюбоваться витринами магазинов на Бонд-стрит.
Это было в конце февраля. Честно говоря, в первой встрече не было ничего примечательного. Элизабет была слишком увлечена, разглядывая витрины и представляя себе, как она танцует в одном из бальных платьев или кутается в меха, — и потому не обратила внимания на тучного невзрачного покупателя в очках в золотой оправе на кончике носа. Правда, его одежда была безупречной (пусть и слегка кричащей), а карманные часы стоили целое состояние. А Элизабет жаждала покончить с жизнью гувернантки. У нее должно получиться.
Инспектор лизнул кончик карандаша.
— Итак, ваша дружба с Вильямом Лейси становилась крепче?
— Он не позволял себе ничего неподобающего, если вы намекаете на это.
— Прошу прощения, миссис Маркхем, если мой вопрос показался вам оскорбительным. — Он выглядел разочарованным. — Мистер Лейси мог быть не в ладах с законом, но его экономка решительно утверждает, что она не нашла ни малейших следов…гм… непристойности в его доме. Даже ваш муж, который кажется ревнивым и вспыльчивым, ни словом не намекнул на вашу неверность. — Его глаза-сверла сверкнули. — Мне просто любопытно, что общего могло быть у почтенной замужней женщины и бессовестного ростовщика.
Конечно, ему было любопытно. И газетчикам тоже. Все сгорали от нетерпения, чтобы узнать это.
С самого начала Вильям Лейси не скрывал своего увлечения Элизабет. Он признавался друзьям, что очарован ею с того момента, когда он пропустил ее вперед и позволил приказчикам обслужить ее прежде него. Они беседовали, ожидая, пока сапоги Пруденс будут готовы, и он сообщил ей, что восхищен ее умом и обаянием. После того как Элизабет вышла, Лейси забросал мистера Нортона вопросами о ней — и, узнав, где она работает, похвалялся “случайными” встречами, которые сам и устраивал.
Но полиция, общество и суд не были глупцами. Если бы Элизабет вправду хотела от него отделаться, она бы нашла способы. Было ясно, что Элизабет держит его на поводке — хотя, заявила она, Лейси был неподходящим мужем.
(При этом не объясняя, почему безработный пьяница и игрок был подходящим.)
Она пожала плечами.
— Кто знает, инспектор, что связывает друзей?
— Да уж не случайные совпадения, — огрызнулся Хейвуд. — Вплоть до смерти Лейси оставался в неведении о вашем замужестве. Возможно, вы объясните, почему вы скрывали его? Может, вы стыдились Джона Маркхема?
— Напротив, — скромно ответила она. — Я восхищалась мужем.
Пресса в этом не сомневалась. С одной стороны, бедная старая дева могла получить прочное положение. С другой — обаятельный красавчик, пользующийся успехом у женщин. То, что он был на семь лет младше жены, лишь добавляло пикантности их браку. Газеты были уверены: читатели не сомневаются в том, что новобрачная отнюдь не считала обременительным супружеский долг.
— Тогда почему вы не рассказали “доброму другу” о своем замужестве?
— Как вы жестоки, инспектор. Я знала, как нежно любит меня мистер Лейси. Почему я должна была ранить его чувства?
— А может быть, потому что мистер Лейси — католик, и хотя супруга оставила его много лет назад, он до сих пор официально женат?
— Это не имело для меня значения.
Хейвуд стукнул кулаком по столу.
— Миссис Маркхем. Для газетчиков ваши характер и внешность — просто сказочное украшение для первой полосы. Но этот человек убит. Вы заманили его к себе в Лексингтон-плейс, застрелили и спрятали под полом кухни, засыпав негашеной известью. В то же самое утро он снял со счета наличными пять тысяч фунтов, каждый пенни из которых исчез. Ваш муж обвиняет вас в том, что вы приказали ему купить пневматический пистолет, лопату, негашеную известь и два железнодорожных билета в Брайтон. А сами в это время собирались съехать с квартиры и продать мебель с помощью маклера! Ваш муж также заявил, что по возвращении домой он обнаружил вас возле кухонной раковины. Ваше платье было в крови, в руке вы держали пистолет, а покойник лежал возле вас на полу.
Он шумно захлопнул блокнот.
— Предумышленное убийство, миссис Маркхем. Вряд ли общество станет скорбеть о кончине мистера Лейси, но, пожалуйста, не пытайтесь убедить меня в том, что вы хотели пощадить его чувства. Этот человек убит по причине столь низменной и безжалостной, как деньги, и я собираюсь представить преступников перед судом. Что вы можете сказать в свою защиту?
Она молчала. Его глаза сузились.
— Ни слова? Ни одного вопроса? Даже о том, почему молодой человек, который обещал любить, беречь и защищать вас три месяца назад, выдал вас?
Элизабет глубоко вздохнула.
— Только одна просьба, инспектор.
— Да? — он наклонился к ней. — И что это за просьба?
— Могу я попросить чашку чая? С половинкой чайной ложки сахара?
Ее поведение бесило полицию, но возбуждало публику. Так много вопросов! Так мало ответов!
Куда делись пять тысяч фунтов? Не было никакого следа этих денег на Лексингтон-плейс, и полдюжины свидетелей из соседнего дома утверждали, что у Вильяма Лейси не было с собой никакой поклажи, когда он заходил в дом.
Это вызывало следующий вопрос. Чем занимался Вильям Лейси в промежутке между тем, как снять наличные и прийти в дом Маркхемов?
И почему, если Элизабет вправду охотилась лишь за его деньгами, — столь умная женщина зарезала курицу, несущую золотые яйца, прежде чем она снесла хоть одно?
Следствие предполагало: Вильям Лейси признался Элизабет, что собирается обратить в наличные часть своего капитала, а она решила избавить его от этого груза самым жестоким и грубым образом. А когда он явился без денег — видимо, выстрелила в него со злости. Возможно, защита ухватится за эту возможность.
Похожа ли миссис Маркхем на женщину, которая в ярости может убить?
Арест молодоженов в разное время в разных местах тоже вызывал интерес и привлек внимание прессы. Возможно, рассуждали они, Джон Маркхем решил затаиться в отеле в Брайтоне, а потом утверждать, что он ничего не знал о преступлении. Но позже передумал и решил обвинить во всем жену, когда узнал, что ее задержали, когда она попыталась сбежать в Булонь.
Обвинение и защита трудились изо всех сил. Особенно после того, как миссис Маркхем призналась, что обещала встретиться с мужем в Брайтоне, но не собиралась выполнять это обещание.
Обвинение предположило, что таким образом она пыталась сделать мужа козлом отпущения.
Защита отрицала это, спрашивая присяжных, мог ли Джон Маркхем купить пистолет, негашеную известь и лопату, не понимая, что они явно предназначены для убийства. Он приобрел эти предметы, настаивала защита, чтобы избавиться от соперника. Хоть Маркхем и не думал, что Элизабет способна нарушить супружеские клятвы, — он был достаточно сообразителен, чтобы понимать, что Лейси был богатым и безжалостным соперником. А значит, мотивом была ревность, а не деньги. Если, как утверждал обвинитель, преступление было совершено из-за денег, — где же они? Были проверены все сундуки, чемоданы и прочий багаж — нигде не было и следа ни монет, ни банкнот.
Конечно, эти загадки заполняли первые полосы газет.
Как Элизабет объяснила Вильяму, почему она оставляет место гувернантки? Что толкнуло Джона Маркхема на убийство?
Была ли Элизабет настолько без ума от своего “восхитительного” мужа, что согласилась скрыть убийство друга, — но все же не так ослеплена, чтобы продолжать жить с убийцей?
Или же сам Мархкем решил убить двух зайцев одним выстрелом, отобрав у Лейси деньги и одновременно избавившись от соперника?
Лишь двое знали правду, утверждали газеты, и их рассказы противоречили один другому. Кому верить? Холодной очаровательной жене — или вспыльчивому, играющему на публику мужу? А может, истина посередине, и перед нами классическая ссора не поделивших добычу воров (в данном случае убийц)?
В любом случае статьи были непредубежденными и выражали настроение общества, сочувствующего одинокой почти тридцатилетней старой деве, разрывающейся между мужской привлекательностью Джона Альберта Маркхема и солидными предложениями богатого землевладельца. Как ни странно, они также сдержанно симпатизировали Маркхему, достаточно проницательному, чтобы понять, что и жена, и соперник умнее его, что его шансы найти работу слабее с каждым днем и что его животный магнетизм будет притягивать жену не вечно.
А Вильяма Лейси, которого застрелили, погребли в безымянной могиле и оставили разлагаться, считали скорее мерзавцем, чем жертвой. Газеты описывали его бесчестные сделки, рассказывали о том, как он грабил вдов и сирот, упоминали о манипуляциях с законом, когда лишь вмешательство хитроумных дорогих адвокатов спасало его от тюрьмы. Обналичивание пяти тысяч фунтов просто случилось в неудачный момент. Было известно, что Лейси подкупал любого, кто мог быть ему полезен, а также вкладывал деньги в такие предприятия, которые следовало скрывать любой ценой. Торговля опиумом, вымогательство, публичные дома, рэкет? Все это было привычным для стретфордского дельца.
И вдруг все изменилось…
“Таймс”, 6 октября 1868 года. Главный уголовный суд, 5 октября
Незадолго до 10 утра присяжных доставили из лондонской кофейни, где они снова провели ночь. Судьи — старший барон Петтигрю и мистер Юстис Корнуэлл в сопровождении лорда-мэра и олдерменов Китча, Хейнса и Уэбстера — заняли свои места, и подсудимые предстали перед судом.
Однако, прежде чем был вызван первый свидетель, произошло событие, поразившее всех членов суда.
Обвинитель представил записи 19-летней давности, показавшие, что убийство Вильяма Лейси было почти во всех отношениях подобно убийству Патрика О’Коннора, таможенника лондонских доков, обладавшего в то время 4000 акциями иностранной железной дороги.
И вправду, зычный голос привратника “Тишина в зале!” еле успокоил публику, когда выяснилось, что останки Патрика О’Коннора были обнаружены под кухонным полом в доме Фредерика и Марии Мэннингов.
Они узнали, что уроженка Швейцарии Мария Мэннинг эмигрировала в Британию, где стала горничной дочери герцога Соммерсетского. Вскоре она позавидовала образу жизни своей госпожи. Работая у леди Блантайр, она познакомилась с 50-летним ирландцем, обладавшим весьма неприятным характером. Большую часть состояния он приобрел преступным путем. Мария очаровала О’Коннора, одновременно заведя роман с Фредериком Мэннингом — железнодорожным охранником, который почти наверняка воровал во время работы на железной дороге, на которой О’Коннора подозревали в укрывательстве краденого. Уверенная в том, что Фредерик унаследует большую сумму, Мария вышла за него замуж, но, узнав, что это обман, она решила бросить его, забрав с собой деньги О’ Коннора.
Суд заслушал, как она пригласила Патрика О’ Коннора на обед и накачала его лауданумом, однако оказалось, что в тот день он позвал с собой друга. Она беззастенчиво предложила ему прийти на следующий вечер, пообещав ему радости секса. А когда он пошел мыть руки, дважды выстрелила ему в голову. Когда ни одна из пуль не убила его, Фредерик добил его ломом. Последними словами Патрика О’ Коннора, когда он шел на кухню мыть руки, были: “Вы еще не доделали свой водосток?”
Он так и не узнал, что этот водосток стал его могилой.
“Таймс”, 6 октября 1868 года. Главный уголовный суд, продолжение.
Суд также услышал, что Мария Мэннинг пришла в дом покойного и забрала оттуда все ценности, включая документы на получение железнодорожных акций.
Затем она села в поезд до Эдинбурга, где была арестована при попытке продать украденные акции О’Коннора.
Фредерик был задержан неделей позже в Джерси. Вначале он отрицал свое участие в убийстве, но затем признался, что никогда не любил О’Коннора, поэтому “размозжил ему голову ломом”.
— Это было хладнокровное преднамеренное убийство, — гремел звучный баритон мистера Локхерста, королевского обвинителя.
Он был высокий, представительным, с внушительным носом римского патриция — и аромат его одеколона разносился так же далеко, как звук его голоса с безупречным произношением.
— Хладнокровной и расчетливой была миссис Мэннинг. Ее характер ярко проявился в ее поведении, когда присяжные вернулись после прений, продолжавшихся сорок пять минут.
Он сделал паузу, подобно хорошему актеру.
— После того как обвинительный приговор был оглашен, Мария Мэннинг начала кричать, что на нее охотились, как на дикого лесного зверя, и обращаться к судье с прочим пустословием, когда он пытался произнести смертный приговор.
Мистер Локхерст медленно обернулся к Элизабет и указал на нее рукой.
— Когда ее вели назад в тюрьму, миссис Мэннинг подправила рукава и спросила у сопровождавших ее тюремщиков, как им понравилось представление.
Сидя на краю скамьи и сложив руки как обычно, Элизабет ощущала ненависть зала, направленную на нее. Но ее лицо оставалось бесстрастным, когда мистер Локхерст обращался к возмущенным присяжным.
— Я не думаю, джентльмены, что миссис Маркхем каким-то образом участвовала в убийстве Патрика О’ Коннора, поскольку в то время она была еще ребенком. Однако!..
Он еще раз указал рукой — теперь уже на документы.
— Обвинение может предъявить доказательства, что она воспитывалась в сиротском приюте, находившемся не далее чем в ста ярдах от тюрьмы, где были казнены Мэннинги. И я предоставлю газетный архив в качестве доказательства того, что она не может утверждать, будто не знала об этом событии.
“Таймс”, 14 ноября 1849. Казнь Мэннингов в Бермондси.
Пять дней назад Хосмонгер-лейн и близлежащие районы присутствовали на захватывающем представлении — такая огромная толпа собралась и таким сильным было ее волнение. Окружающие пивные были переполнены. Стоимость аренды окон, из которых был виден эшафот, воздвигнутый на площади, достигала Калифорнийских цен.Сверх того, присутствовало 500 полицейских. И хотя нелегко посчитать общее количество присутствовавших на этом ужасном зрелище, их было примерно 30000.
— Может ли быть случайностью, — обвинитель безупречно произносил гласные, — что спустя девятнадцать лет Элизабет Маркхем, урожденная Кларк, так же вступает в сговор с целью подружиться с богатым бесчестным негодяем? И что, притягивая Вильяма Лейси, она одновременно выходит замуж за человека глупее себя, пьяницу наподобие Фредерика Мэннинга, которым она легко управляет? О Боже, можем ли мы отделить одно преступление от другого? Даже бегство миссис Маркхем замышлялось так же. Послать мужа на одну станцию, а самой отправиться на другую — именно так поступила Мария Мэннинг, ранее заставившая Фредерика купить все необходимое для убийства Патрика О’Коннора.
Ни малейшей симпатии в зале суда. Ни одного проблеска — даже к Джону Альберту Маркхему — тщеславному молодому бездельнику, выглядевшему сейчас как простак. Дурак он или нет — он совершил хладнокровное убийство. А это тягчайшее преступление.
— Может ли быть малейшее сомнение, — спрашивал мистер Локхерст у завороженной публики, — что Элизабет Маркхем провела прошедшие годы в качестве гувернантки, вспоминая обстоятельства, знакомые с детства, и мечтая совершить подобное сама?
Он провел пальцем вдоль патрицианского носа и постучал по нижней губе.
— К несчастью, ее план потерпел неудачу, когда мистер Лейси не принес ей обещанных денег. И хотя мы вряд ли узнаем, для каких преступных целей предназначались эти деньги — я утверждаю, что движущей силой данного преступления была обычная жадность.
Можно было услышать пресловутое падение иголки.
— Характер мистера Лейси предстал в крайне дурном свете. Да, он был жестоким землевладельцем, не питавшим ни малейшего сострадания к арендаторам, которые не могли заплатить ему в срок, какими бы отчаянными ни были их обстоятельства. Еще безжалостнее он был к тем, кто занимал у него деньги. Его ставки были грабительскими, а способы взыскания долга жесточайшими. Но я прошу вас сейчас об этом забыть.
Незачем было просить — они уже это сделали.
— Подобно Мэннингам двадцать лет назад, Маркхемы пытались свалить ответственность друг на друга. Но я прошу вас учесть, джентльмены, что, хотя задумала преступление миссис Маркхем, ее муж был добровольным соучастником. Хотя подсудимые ни в чем не признались — обвинение убеждено, что когда мистер Лейси направлялся на Лексингтон-плейс в то роковое утро, он уже догадывался, что миссис Маркхем намеревается его ограбить. Возможно, он собирался злорадно посмеяться над тем, что сорвал ее план, обвинить ее, сообщить, что он знает о ее замужестве — может быть, даже сдать в полицию во внезапном порыве христианского долга.
Лишь сам Локхерст улыбнулся своей шутке.
— Но я уверяю вас, джентльмены: что бы ни намеревался совершить мистер Лейси тем роковым утром — его намерение было достаточно серьезным, чтобы вынудить Маркхемов заставить его замолчать навеки.
Взглянув на присяжных, Элизабет увидела ненависть в их глазах.
И торжество в глазах инспектора Хейвуда.
“Таймс”, 5 октября 1868. Главный уголовный суд, 4 октября.
Когда мистер Локхерст, обвинитель, закончил свою речь, миссис Маркхем встала, подошла к мужу и что-то прошептала ему на ухо.
Констебли мгновенно вскочили — но вмешательства не требовалось. Когда они подошли, подсудимая уже сидела на скамейке в своей обычной позе, а сам Маркхем смотрел на нее потрясенно, и его лицо было смертельно бледным.
Теперь, через двадцать четыре дня после того, как присяжные вынесли обвинительный приговор, Элизабет сидела в холодном темном помещении, напряженно ожидая рассвета. Она вспоминала, как в девять лет затерялась среди лондонских нищих, толпившихся вокруг тюрьмы на Хорсмонгер-лейн — или тюрьмы графства Суррей, как ее называли теперь. Название ничего не изменило. Она оставалась такой же мрачной унылой дырой, где призраки приговоренных вопили на лестницах, а невинные души безмолвно плакали. И камеры осужденных были холодны, как могилы.
Но девятнадцать лет назад по мере приближения к рассвету толпа увеличивалась и шумела все сильнее. Элизабет вспоминала эту сцену, словно она случилась вчера. Скупой контур виселицы, темный даже по сравнению с тьмой ночи. Лестница, ведущая наверх. Дым тюремных печей, зажженных, чтобы отогнать подальше ноябрьский сырой туман. Задолго до рассвета возле окон, из которых был виден эшафот на Хорсмонгер-лейн, теснилась куча народу. Наверняка Чарльз Джон Хаффем Диккенс находился среди них.
Еле слышно вздохнув, она взяла книгу и положила ладонь на открытую страницу. Женится ли Пип на этой ужасной Эстелле? Тихонько, очень тихонько она закрыла книгу и положила ее на скамейку.
И вправду большие надежды…
Забавно, что хоть их пути пересекались с мистером Диккенсом много лет назад, он ничуть не подозревал, какое влияние оказал на нее позже. Да, в результате его непрестанных усилий лишь маленькая группа людей будет сегодня наблюдать… наблюдать…
Элизабет проглотила слюну. Тогда, разумеется, зрелище мужа и жены на виселице было почти беспрецедентным, и теперь она все время гадала, что же происходит в голове ее мужа в эту страшную минуту. Четырнадцать лет в сиротском приюте, восемь в качестве гувернантки (не говоря уже о том, что она видела, как ее родители утонули, потому что их лодка перевернулась) научили ее скрывать свои чувства. Никакой хитростью нельзя ее заставить показать больше, чем она хотела. Но Джон? Для него, конечно, секунды тоже будут ползти, словно закованные в ножные кандалы, и он не станет сидеть, сложив руки на коленях. Только не Джон. Страшно ли ему? Упал ли он на колени, молясь Богу? Смирился ли он с тем, что официально называется “ужасным переходом”?
Она вспомнила, как Фредерик Мэннинг взошел на виселицу. Он был в своем лучшем костюме (возможно, единственном) — но больше всего тем утром ее потрясло, что воротник его рубашки был отрезан, чтобы легче было накинуть веревку. Она также вспомнила, что он так сильно дрожал, что не мог подняться на эшафот без посторонней помощи. Его поддерживали с обеих сторон — в то время как Мария Мэннинг поразила публику. Завязав глаза своим черным шелковым платком, в черном атласном платье, она подошла к петле твердой решительной походкой. Она до конца оставалась непревзойденной актрисой, и ее спектакль (даже просьба о помиловании к королеве Виктории из камеры осужденных) вызвал такую бурю, что черный атлас вышел из моды и не вошел в нее до сих пор.
Но ни слабость Фредерика, ни драматический талант Марии не вдохновили Диккенса.
Издателю “Таймс”
Когда я присутствовал при этой ужасающей сцене, крики и вой толпы заставили мою кровь застыть в жилах. В течение ночи раздавался визг, хохот и пародии на негритянские мелодии, где вместо “Сюзанна” звучало “Миссис Мэннинг”.
Когда настал рассвет — воры, проститутки, головорезы и бродяги хлынули на площадь, ведя себя безумно и непристойно.
Драки, обмороки, свист, подражание Панчу, грубые шутки, бурные проявления неприличного восторга, когда женщин в обмороке в разодранных платьях полиция вытаскивала из толпы, добавили изюминки этому действу.
Взошедшее солнце осветило тысячи и тысячи искаженных лиц, столь невыразимо гнусных в своем диком веселье, что человеку следовало бы устыдиться своего облика и отбросить его, словно созданного по образу и подобию дьявола.
Когда два несчастных создания, причина ужасного действа, были вздернуты наверх, — это не вызвало ни капли сострадания, ни одного чувства, ни одной мысли о двух душах, представших перед Создателем — словно имя Христа никогда не слышали в этом мире.
Чарльз Диккенс,
Девоншир-террасс,
Вторник, 13 ноября.
Следствие поняло верно. Элизабет вправду была среди тех искаженных людей с искаженными лицами. Еще долго после того, как тела убрали и толпа разошлась, она потрясенно стояла перед воротами тюрьмы.
Вначале отрицая участие в преступлении, потом обвиняя во всем жену, Фредерик в конце концов признался своему брату во всем. Даже в том, что он выкопал могилу заранее, за месяц до убийства Патрика О’Коннора.
Мария же выказала с самого начала твердость характера и проявляла ее в течение всего процесса. Она ушла в могилу, унеся свои секреты с собой.
Элизабет бы поступила так же.
— О, мистер Лейси, какой случай! Мы встречаемся уже третий раз!
Чертов случай помог им встретиться и в четвертый раз. Первый раз, конечно, был вправду случайностью. Затем она заметила блеск в его глазах. Такой же, как в глазах сэра Генри, когда он обнаруживал редкое восточное сокровище и не успокаивался до тех пор, пока не добавлял его к своей коллекции. Как все коллекционеры, он был одержимым — и Элизабет сразу же заметила сходные черты у Вильяма Лейси.
— О Боже, мистер Лейси, мне кажется, что ваши усы отросли с тех пор, как мы встречались последний раз.
Он сделал широкий жест руками.
— Не стану отрицать.
Элизабет сделала шаг назад, чтобы выразить восторг тем, что выглядело просто как щетина.
— Усы делают вас очень красивым, мистер Лейси.
Он хитро усмехнулся и взглянул из-под рыжих ресниц взглядом, от которого порой у нее ползли мурашки по коже.
— Вряд ли я красив, мисс Кларк.
Пухлый из-за слишком обильной пищи и недостатка движения, с желтоватой лоснящейся кожей из-за того, что все время находился в помещении, Лейси прекрасно знал о своих недостатках. Равно как и о преимуществах.
— Я никогда не был красивым.
Он завел свой дорогой хронометр.
Она криво улыбнулась.
— Ну, представительным.
Он поправил очки в золотой оправе.
— Вы позволите угостить вас чаем со сливками, мисс Кларк?
Так начался этот танец: булочки, варенье, сливки. Элизабет была неглупа. В определенных кругах для женщины под тридцать оставаться незамужней унизительно. Но гувернантка — ни рыба, ни мясо — не входила в эти круги. К тому же она знала, чего стоит. У нее не было ни денег, ни связей — но она сделала ставку на свою внешность, а также ум и обаяние.
К тому же мужчины есть мужчины.
Все они мечтают растопить Снежную Королеву…
— К несчастью, мисс Кларк, в среду мне пришлось выгнать вдову с младенцем из их единственного дома.
Чай со сливками постепенно превратился в длинные прогулки, обеды, пикники, поездки в карете. Порой Лейси демонстрировал ей свои владения в Шоредите, Майл Энде, Стретфорде, Степни — и всегда называл суммы, которые он получал благодаря ренте и тому, что называл “другими предприятиями”.
— Сироты, которых вы выбрасываете на улицу, мистер Лейси. Вы не опасаетесь за их будущее?
Еще чай, еще печенье. Элизабет не скоро сможет съесть следующую булочку.
— Я готовлю для себя другое будущее, мисс Кларк. — Он искоса взглянул на нее. — Доход, который я получу от следующего арендатора, обеспечит мне комфортный выход на пенсию.
Элизабет сложила руки под столом.
— Я думаю, вам еще долго до пенсии, мистер Лейси.
Еще один взгляд искоса.
— С надежным финансовым тылом человек может уйти на покой в деревне раньше, чем ожидают другие.
Он прочистил горло.
— Говорят, что двое могут жить так же комфортно, как и один.
Долгий последний танец в конце:
— Кажется, вы забыли, что все еще женаты, мистер Лейси.
— Формально да, мисс Кларк. Но в деревне не обязательно посвящать окружающих в детали семейного положения. Если вы понимаете, что я хочу сказать.
Фальшивый брак? И что она получит, если он умрет? Он может изменить завещание в любой момент, не сообщив ей, и она останется ни с чем. Элизабет знала все о коллекционерах. Они дорожат собственностью — но радость обладания не сравнится с радостью от приобретения чего-то новенького.
Элизабет наклонилась к столу и улыбнулась, опустив ресницы.
— Я всегда любила деревню, мистер Лейси.
И прежде чем он успел ответить, зазвонил колокольчик, сообщая об ее уходе. Когда принесли счет, ее уже не было.
Прошла неделя, в течение которой она не отвечала на его письма. Он присылал записки каждый день, а иногда и дважды в день. Она их она сразу сжигала. Особенно пока она еще жила в доме сэра Генри.
— Спасибо.
Она дала мальчику, приносившему письма, его обычный фартинг и через десять дней после их последней встречи поехала в Стретфорд, зная, что он наверняка будет дома — после обеда по четвергам он всегда проверял счета.
— Мисс Кларк! Элизабет! — его удивление и радость были неподдельными. — Входите.
Он налил ей и себе по бокалу черри, ни словом не упомянув ни о письмах, ни о предложении, сделанном за блюдом печенья Экклса. Вместо этого он попытался поцеловать ее.
Она оттолкнула его с решительностью, удивившей его. И танец начался снова.
— Я вам не нравлюсь? — спросил он напрямую.
— Нет, сэр, не нравитесь.
— Нет, — медленно произнес он. Сделал глоток черри. Затем встал, прошел через комнату и открыл верхний ящик бюро. — Но, думаю, это вам понравится. Ценные бумаги, мадам. Пять тысяч в упаковке.
Он поджал губы.
— Теперь скажите честно, что они вам не нравятся.
Глядя на пачку, завязанную красной лентой, Элизабет поняла, что больше не получится ходить вокруг да около. Никому из них.
Она глубоко вздохнула и посмотрела ему в глаза.
— Честно, мистер Лейси? Если честно — для меня эти бумаги ничего не значат. Совсем.
Она сделала паузу, затем подошла к нему так близко, что ее дыхание затуманило стекла его очков.
— Но если вы превратите эти бумаги в двадцатифунтовые купюры и расстелете в кровати в покоях для новобрачных отеля Клайборн, заказанных на имя мистера и миссис Смит, — она мягко шепнула ему на ухо, — я буду к вашим услугам.
Выскользнув и не оглянувшись назад, она попыталась забыть о его жирном теле, прильнувшем к ней. Конечно, ее предложение было омерзительным — но за пять месяцев Элизабет изучила мистера Лейси как следует. Она знала, что он без раздумий обратит свои бумаги в наличные. И точно так же выкупит их на следующий день!
Но будем делать по одному шагу за один раз…
С тех пор как Элизабет стояла возле узкой, мрачной виселицы на Хорсмонгер-лэйн, она не забыла Марию Мэннинг. Мария тоже мечтала о мягких постелях, теплых комнатах и деньгах, чтобы платить за еду и топливо. Горничная Мария мечтала о хорошей жизни, как и гувернантка Элизабет. А рассказы о вдовах и сиротах, выброшенных на улицу, укрепляли ее решимость избавиться от рабства у таких господ, как Вильям Лейси.
Марию Мэнниг сгубила жадность. Если бы она не пыталась продать ценные бумаги Патрика О’Коннора сразу же, если бы у нее хватило терпения подождать подольше, если бы она не попыталась сразу ухватить торт и съесть его — она бы спокойно ускользнула от правосудия.
А у Элизабет было почти двадцать лет, чтобы изучить ошибки Марии…
Каждую субботу налаживая связи, раскидывая щупальца и изучая рынок мужей, она сочла Джона Альберта Маркхема лучшим кандидатом для алтаря. Он был пьяницей, игроком, хвастуном и лентяем — но в то же время красивым, милым и обаятельным. Ее супружеский долг вряд ли станет неприятным. И что особенно важно — он влюбился. Он тоже страстно желал растопить Снежную Королеву. Он был юн и простодушен и верил, что союз противоположностей продлится вечно. А главное — он не был коллекционером. Он был наивным и доверчивым, снимал меблированные комнаты и мечтал о будущем, в котором они с Элизабет вырастят детей, внуков, проживут долго и умрут в один день. А будучи игроком, он смутно представлял, какие денежные нити помогут соткать такое счастливое будущее.
Однако понимал, что такое пять тысяч…
Как и Мария, Элизабет посвятила мужа в свой план. Как и Фредерик Мэннинг двадцать лет назад, Джон согласился стать сообщником.
— Ты уверена, что он принесет деньги?
— Совершенно уверена, — ответила она и поцеловала его. — Верь мне.
Как и Мария, Элизабет заманила Вильяма на Лексингтон-плейс, сказав, что это дом друзей, застрелила его так же, как Мэннинги убили Патрика О’Коннора, из пневматического пистолета (Лейси погиб от первой пули, вторая была просто предосторожностью), а затем они засыпали его купленной Джоном негашеной известью, как и Мэннинги прежде. Прошлый процесс был настолько знаменитым, что следствие не могло не заметить сходства. Но если Марии удалось избежать ареста — как Элизабет позволила себя поймать?
— Какими бы хитроумными ни были убийцы, — гремел голос обвинителя мистера Локхерста, — они всегда допускают одну-единственную ошибку.
Он обернулся и указал туда, где сидела Элизабет, — и она увидела торжество в его глазах.
— Одну-единственную ошибку, которая позволяет нам свершить правосудие.
Элизабет увидела, что цвет небес изменился. Долгожданный рассвет, наконец, наступил — розовый с вкраплениями серого. С глубоким судорожным вздохом она поправила бахрому из черного кружева, почти, но не полностью, закрывавшую ее глаза. В уме она проживала этот миг тысячу раз. Священник бормочет молитвы. Связанные руки. Долгий путь по проходу, огороженному воротами и оградой. Шаги, ведущие осужденных к отверстой могиле.
Откуда-то в кошмар вторгся мужской голос.
— Время пришло, мисс.
Время. Что значит время, когда белый капюшон наденут на чью-то голову, а веревка обовьется вокруг чьей-то шеи? “К счастью, я этого никогда не узнаю”, — прошептала она про себя, взяв перчатки и сумочку.
Через тонкую щель в окне маленького парома в ее поле зрения появились огни корабля, который понесет ее через Атлантику.
Нью-Йорк. Новый Свет. Новая жизнь…
“Таймс”, 5 октября 1868. Главный уголовный суд. 4 октября.
Однако в суде вызвал ажиотаж не тот факт, что миссис Маркхем внезапно встала и что-то прошептала мужу.
Суд потрясло, что сразу после того, как она села, Маркхем вскочил и закричал: “Да, я признаюсь! Это был я! Я застрелил Лейси из пистолета, который приобрел для этой цели! Моя жена сказала правду — она невиновна!”
Убийцы действительно совершают одну-единственную ошибку? Так ли, мистер Локхерст?
Быть схваченной в ожидании судна в Булонь было частью плана Элизабет. А также пройти суд. Потому что единожды оправданного нельзя снова судить за это преступление. Таков закон.
Она взяла книгу, окончания которой никогда не узнает. Вернее, не хочет знать. За эти двадцать четыре дня, когда она могла лишь ждать и читать, читать и ждать, с нее хватило Диккенса на всю жизнь. Но что еще она могла сделать? Джона Альберта Маркхема могли бы помиловать либо правда вышла бы наружу каким-то образом.
Но теперь, когда прозвонил тюремный колокол и палач опустил тело ее мужа в люк, Элизабет знала, что мистер Локхерст был совершенно неправ. Двадцать лет изучая ошибки Марии Мэннинг, Элизабет усвоила урок как следует.
— Мистер и миссис Джон Смит? — прошептал Вильям Лейси.
— Если я отдамся вам в кровати из двадцатифунтовых банкнот, я сохраню хотя бы минимальный остаток гордости, — ответила она, скромно опустив глаза.
Так и случилось. Ровно в десять часов Вильям Лейси получил за ценные бумаги пять тысяч фунтов наличными в своем банке в Блумсберри и принес портфель… прямо через дорогу в отель Клайборн. Конечно, он не связывал банк с выбранным ею отелем. Он был недалеко от Ритца. Но Элизабет хотела быть уверена, что полиция не найдет никаких следов. И кто заметит, что Вильям Лейси просто нес портфель через дорогу?
Она увидела, как он вышел из отеля примерно через двадцать минут. Она уже сняла жилье, и пока портье вызывал кэб, она уже была в пути впереди него. Заморочив Лейси сказкой о том, что она сбежала от сэра Генри и укрылась у друзей, она ждала. А затем, когда тело было спрятано, а Джон — на пути в Брайтон, — вульгарная дамочка, назвавшаяся миссис Смит, зашла в номер для новобрачных, собрала банкноты, разбросанные на кровати, сложила их в портфель, оплатила счет и сдала портфель на хранение в офис багажного отделения вокзала “Виктория”.
Вернувшись к роли миссис Маркхем, она заказала билет в Булонь и подождала, пока поднимется тревога и тело обнаружат. Как предусмотрительно она отправила записку ему домой после того, как он уехал тем роковым утром, чтобы быть уверенной, что интервал будет недолгим! Теперь оставалось только ждать.
Ждать ареста.
Ждать допроса.
Ждать, когда Джон Альберт Маркхем возьмет на себя полную ответственность за преступление.
Ждать портфеля с деньгами.
Ждать этого рассвета, когда единственный человек, знавший правду, будет мертв…
Несколько дней после ее оправдания газеты были переполнены размышлениями об удивительном повороте событий. Что могла прошептать мужу миссис Маркхем? Что она могла сообщить настолько важного, что он мгновенно признался?
О, как мужчины глупы!
— Я беременна, Джон. — Она положила руки на свое черное атласное платье, уже привлекшее внимание прессы. — Я ношу нашего ребенка.
Это было словно хлыст, подстегнувший его. Мысль о том, что его имя, его род исчезнут, была невыносима для Джона. Он лучше пойдет на смерть, признав свою вину, чем убьет свое дитя. И Элизабет это знала.
Бедный, простодушный, доверчивый Джон. Неужели никто не сказал ему, что беременных женщин не казнят?
Поднимаясь по трапу, такому небольшому по сравнению с гигантским лайнером, Элизабет выбросила “Большие надежды” в воду, алую от восходящего солнца. Ей больше не было дела, женится ли Пип на жестокой Эстелле. В Америке, обладая пятью тысячами фунтов, Элизабет подумает, как ей самой снова стать женой.
Или вдовой, если придется.