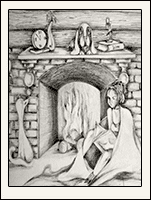Д. Линскотт “Прелестная молчальница”
ДЖИЛЛИАН ЛИНСКОТТ
ПРЕЛЕСТНАЯ МОЛЧАЛЬНИЦА
Gracious Silence
© by Gillian Linscott
First published: ???
© Перевод выполнен специально для форума "КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДЕТЕКТИВА"
Перевод: Эстер Кецлах (псевдоним)
Редактор: Ольга Белозовская
© 2020г. Клуб Любителей Детектива
ПРЕЛЕСТНАЯ МОЛЧАЛЬНИЦА
Gracious Silence
© by Gillian Linscott
First published: ???
© Перевод выполнен специально для форума "КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДЕТЕКТИВА"
Перевод: Эстер Кецлах (псевдоним)
Редактор: Ольга Белозовская
© 2020г. Клуб Любителей Детектива
! |
Весь материал, представленный на данном форуме, предназначен исключительно для ознакомления. Все права на произведения принадлежат правообладателям (т.е согласно правилам форума он является собственником всего материала, опубликованного на данном ресурсе). Таким образом, форум занимается коллекционированием. Скопировав произведение с нашего форума (в данном случае администрация форума снимает с себя всякую ответственность), вы обязуетесь после прочтения удалить его со своего компьютера. Опубликовав произведение на других ресурсах в сети, вы берете на себя ответственность перед правообладателями. Публикация материалов с форума возможна только с разрешения администрации. Внимание! В топике присутствуют спойлеры. Читать обсуждения только после прочтения самого рассказа. |
Gracious Silence by Gillian Linscott (ss) The World's Finest Mystery and Crime Stories, 4»; ed. Ed Gorman, Martin H. Greenberg, August 1st 2003
|
Кориолан Привет тебе, Прелестная молчальница моя! При торжестве моем ты вся в слезах! Ужель смеяться стала бы, когда б В гробу к тебе я прибыл? © У. Шекспир. “Трагедия о Кориолане”, акт II, сцена I |
Прелестная молчальница. Так он назвал меня перед всем этим ликующим городом. Молчаливой я была всегда, с детства. Прелестная — на это потребовалось больше времени. Но к тому дню, когда он с триумфом вернулся домой с лавровым венком на голове, окруженный толпой горожан, пьяный от их восторгов и дешевого вина, я уже десять лет трудилась над этим под руководством самой лучшей за всю историю Рима наставницы.
Дорогая Волумния, благороднейшая из всех свекровей. Я была робкой семнадцатилетней девушкой, когда началось мое обучение. Однажды летним вечером Кай Марций, тогда он еще не был Кориоланом, пришел с друзьями в дом моего отца, чтобы согласно обычаям увести меня. Обо всем, разумеется, надлежащим образом договорились заранее. Теперь-то я знаю, что, выбирая меня в жены своему сыну, она, должно быть, тщательнейшим образом изучила мои происхождение, телосложение, характер, состояние зубов, военные заслуги моего отца и сведения о плодовитости женщин нашей семьи, начиная с древнейших времен. Разумеется, я не была достаточно хороша для Кая Марция, но ведь только Юнона, едва спустившаяся с Олимпа, была бы достойна столь высокой чести (если бы она последила за своими манерами и выразила должную признательность). Что касается меня, полагаю, я была благодарна. И, разумеется, преисполнена благоговейного страха. Он был на тринадцать лет старше меня и уже тогда был одним из самых прославленных воителей Рима. Его лицо было покрыто коричневым загаром, за исключением двух блестящих шрамов: один рассекал лоб и правую щеку, едва не задев глаз; второй спускался по левой стороне подбородка и шеи. Впрочем, выглядел он неплохо. Широкоплечий и мускулистый. Копна черных волос аккуратно подстрижена ради свадебного обряда. Красиво очерченные губы, полные, словно у женщины. Светлые и очень внимательные глаза. Едва он перенес меня через порог, она была уже там, чтобы официально приветствовать меня в их доме. Который стал теперь и моим тоже. Мои родители подготовили очень хорошую короткую ответную речь, но отчего-то, когда для нее пришло время, я позабыла все слова. Она, казалось, была вполне довольна моим молчанием и опущенными глазами.
— Ты потеряла голос, Виргилия? Что ж, лучше это, чем болтушка.
Откуда ей было знать про голос у меня голове, звучавший только для меня? Тогда я в первый раз услышала его. И поначалу он был таким тихим, таким слабым и неуверенным, что я могла притвориться, что его вовсе не существует.
“Почему никто не смеялся? Когда за моими подругами приходили их мужья, все смеялись, люди путали слова свадебных гимнов, лепестки роз падали на волосы жениха и вниз, ему на шею. Но на моей свадьбе они спели все без единой ошибки, словно целый день репетировали. А если лепестки падали на его волосы, он тут же смахивал их, прежде чем кто-нибудь мог заметить это. Тут не было совершенно ничего смешного. Я никогда больше не засну в своей собственной постели. И, возможно, я уже достаточно много смеялась, чтобы мне позволили когда-нибудь сделать это снова. Кто-нибудь, помогите мне. Помогите мне”.
Наш сын родился через три года после свадьбы. Она не упрекала меня за это промедление — по крайней мере, не очень сильно. Ведь Кай Марций провел в походе самое меньшее полгода и, естественно, вернулся домой усталым. У него было много дел в войсках, потому что наши старые враги, вольски, снова зашевелились. Они всегда были тут — рыскали за нашими стенами. Иногда они просто воровали скот и нападали на путников из засады. Но время от времени у них появлялся честолюбивый вождь, и тогда под угрозой оказывался сам Рим. Сейчас у них были как раз такие времена, и наиболее робкие жители пугали друг друга всякими ужасами — вольски прорываются в город, поджигают наши дома и увозят женщин, перекинув их через седло. А потому это было хорошее время для воина, и Кай Марций мог сражаться, сколько хотел.
Разумеется, он был совсем измучен, когда вернулся домой. И после мира мужчин и битв, когда он спал на голой земле под навесом, сшитом из шкур и пропускавшим ветер и дождь (понимаете, он ведь был хорошим командиром и разделял все тяготы своих людей), ему трудно было привыкать к нежнейшему миру женщин, ласковым голосам и ваннам с ароматическими маслами. Еще труднее было проводить долгие вечера с почтенными старцами, ведя дипломатичные разговоры за чашами вина.
— Еще пару лет, Кай Марций. Еще год или два, решительная, окончательная победа над Туллом Авфидием
Волумния, бывало, сидела с ними, пила вино и высказывала свое мнение, словно тоже была мужчиной. Я пыталась уклониться от разговоров, слушала и молчала. Ему не слишком нравилось вино, он был не любителем выпивки, но приходилось пить с ними, чтобы казаться любезным. Человек, пытающийся занять высокую государственную должность, вынужден балансировать на тонкой грани, чтобы не выглядеть ни ханжой, ни повесой. Так что, естественно, к тому времени, когда нам удавалось добраться до нашей спальни, он уже просто валился с ног. Честно говоря, думаю, он больше всего нравился мне именно в те ночи, и я почти готова была полюбить его. Вдали от этих старцев, от своих солдат и от матери он чувствовал себя потерянным, словно заблудившийся ребенок, брошенный на произвол судьбы. Однажды ночью он взъерошил мне волосы, зевнул и сказал:
— Для чего нам проходить через все это? Так ли уж сильно мне хочется стать консулом?
Что ж, я знала ответ: “Нет, но твоя мать хочет этого для тебя”. Но я, разумеется, не могла этого сказать. Поэтому я просто поцеловала его, а потом мы оба повернулись на другой бок и заснули.
Итак, с этим вышло промедление. Но, когда я в должное время родила здорового мальчика, она почти простила меня. Разумеется, было совершенно ясно, что это должен был быть мальчик. Даже если бы сначала это было не так, думаю, ее решимость проникла бы в меня и поменяла пол ребенка, пока он рос.
Когда вы становитесь матерью, ваша жизнь меняется. В частности, вам снова позволено смеяться. Я смеялась возле маленького Марция, воркующего в своей корзине, а он смеялся в ответ, размахивая своими крохотными розовыми кулачками. (“Уже рвется в бой, да хранят его боги, — говорила его бабка. — Он просто копия своего отца”. Словно я была тут совершенно не при чем.) Мы смеялись, он и я, когда я учила его делать первые шаги по мощеной дорожке, между грядками с зеленью. Она всегда караулила, чтобы, когда он падал, оказаться рядом раньше меня. Но не для того, чтобы посочувствовать.
— Римский солдат не плачет, Марций. Твой отец был ранен девятнадцать раз, но он никогда не плакал.
Наверное, мне следовало бы догадаться уже тогда, но несколько лет я была так счастлива, играя с ним на солнышке. Я ничего не понимала до того случая с бабочкой, когда ему было пять лет. Ему нравилось гоняться за бабочками, разумеется, как и всем детям. Но едва ли он поймал хоть одну. Это случилось в один прекрасный день, в конце лета, когда одна необыкновенная бабочка двигалась слишком медленно. Может быть, она замерзла ночью или просто устала. Как бы то ни было, он попытался схватить ее и на этот раз зажал в руке. Он подбежал, чтобы показать ее мне, споткнулся, разжал руку, бабочка вырвалась и неуверенно полетела прочь: у нее было повреждено крыло. Его детский яростный рев привлек ее внимание.
— Не дай ей улететь, Марций. Вставай и беги за ней.
Под ее крики он погнался за этой раненной бабочкой вверх и вниз по дорожке, через грядки с овощами, вверх и вниз по лестнице, пока не поймал ее, крепко зажав в кулаке.
— А теперь убей ее, Кай. Накажи ее за побег.
Он не сводил с нее глаз, а она — с него, пока он разрывал бабочку на кусочки; его пальцы покрылись желтой жидкостью, похожей на гной, и радужной пыльцой с крыльев. Когда все закончилось, она одобрительно улыбнулась ему, и он улыбнулся ей в ответ; не глядя на меня, не считая меня достойной внимания. И тогда я поняла, как должна была бы понять с самого начала, что он останется моим очень недолго. Еще несколько лет — всего несколько коротких лет — и он начнет вместе со своим отцом ходить в походы; учиться быть героем. Думаю, тогда мне стало ясно, что должно случиться — конечно, не в деталях: как все это будет происходить — но чем все закончится. Наблюдательная, как всегда, она что-то заметила в моем лице.
— Виргилия, ты плачешь?
— Только от смеха, — сказала я.
Когда вы становитесь матерью, ваши подруги чувствуют, что могут говорить с вами о сексе. Незамужние девушки и юные невесты должны краснеть и делать вид, что не понимают скрытые намеки, которые звучат за прялками или над чашами с разбавленным вином. Но дитя в колыбели — ваша плата за вход в школу двусмысленности.
— Ты выглядишь немного утомленной, Флавия. Бессонная ночь?
Или:
— Мы сегодня немного вспыльчивы, Марция, дорогая? Как долго Марк был в отъезде?
Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что они завидуют мне. Оттого, что Кай Марций был таким знаменитым воителем, они полагали, что он должен быть безудержным и в постели. Когда я, наконец, поняла, что они имеют в виду, говоря о том, что я должна поберечь силы до того времени, когда он придет домой, о возвращении воина и тому подобном, я не стала отвечать им в том же духе. Я краснела, опускала глаза на свою прялку или шитье и молчала. Волумния, разумеется, всегда была здесь же, рядом. Я видела, что она довольна этими комплиментами его мужской силе, но одобряет мое скромное молчание, считая радости нашего супружеского ложа слишком священными для пустой болтовни.
На самом деле, дорогие мои подруги, для вашей зависти не было никаких причин, совершенно никаких. Быть женой прославленного воина это вовсе не то, что вы себе воображаете. Во-первых, раны. По две-три новых в каждом походе. К тому же — он ведь герой — все время на людях. Когда вы подумаете об этом, вы поймете, что это не очень-то располагает к веселой беззаботности. Во-вторых, есть еще она — рядом, за стеной. Любой скрип кровати, любой шепот, и вы представляете себе, как она там лежит без сна, гадая, не будет ли этой ночью зачат еще один маленький герой. И если нет, то что эта глупая девчонка делает не так? Поэтому, прошу вас, избавьте меня от намеков на Венеру и Марса.
Я очень прошу вас, потому что эти намеки заставляют меня думать о том, чем вы и ваши мужья занимаетесь в постели. Это и в самом деле огонь и стремительный поток, аромат роз и бьющиеся крылья, как говорят поэты? Хотела бы я, чтоб кто-нибудь рассказал мне.
Должно быть, тогда я случайно встретилась глазами с одним молодым человеком примерно моих лет, когда шла вместе с Волумнией в гости к друзьям. Он был высоким, с темными вьющимися волосами, и, увидев, что я смотрю на него, он улыбнулся мне такой искренней, открытой улыбкой, что я не могла не улыбнуться в ответ. Когда мы вернулись домой, она сказала мне, что делать этого не следовало. Я должна понимать, что, будучи женой Кая Марция, будущего консула, я не могу давать даже самого слабого повода для сплетен. Моя незапятнанная репутация должна быть для меня так же важна, как воинская доблесть для него. Потом, глядя мне в лицо, и самым обычным тоном, словно мы обсуждали какие-то домашние дела, она сказала:
— Если я когда-нибудь узнаю, что ты неверна Каю Марцию, я убью тебя. Я убью тебя своими собственными руками. Понимаешь?
Я кивнула, склонив голову, и ничего не сказала.
А может, все совсем иначе? Ни огня, ни аромата роз — просто что-то, над чем двое могут вместе посмеяться, что-то вроде секрета, о котором никому нельзя рассказать. Неужели мне придется прожить всю свою жизнь, так и не узнав, что это такое?
В то лето необычайно размножились крысы. А ведь (что делало эту беду еще хуже) каждое зернышка пшеницы, каждая капля масла были особенно ценны для нас, потому что в любой день мы боялись обнаружить, что Тулл Авфидий и его варварские орды осадили город. Кай Марций почти не бывал дома, а если и приходил, не мог говорить ни о чем другом, кроме Тулла Авфидия. Он был просто одержим этим человеком. Авфидий сказал то. Авфидий сделал это. Авфидий разбирается в военной тактике почти как римлянин. Однажды ночью, когда почтенные старцы собрались на важное совещание, он сказал:
— Единственное, чего я боюсь в этом мире — что кто-то другой убьет его.
И когда они спросили: почему? Он ответил:
— Потому что его жизнь принадлежит мне.
Он сказал это почти с любовью. Позже, когда мы остались одни, я спросила его, что за человек этот Тулл Авфидий.
— Прекрасный солдат, — ответил он.
— Я имею в виду, как он выглядит?
Это удивило его, и ему пришлось задуматься над этим.
— Рыжие волосы, рыжая борода. Довольно высокий для варвара, — потом, постаравшись изо всех сил, прибавил, — очень белые зубы, когда он улыбается.
— Молодой?
— Довольно молодой, моложе меня. Но опытный воин.
Потом он похлопал меня по плечу и сказал, что мне нечего бояться. Он защитит всех нас от Тулла Авфидия. Потом он вернулся к своим солдатам, и я опять осталась в постели одна.
“Приди и спаси меня, Тулл Авфидий. Скачи галопом через городские ворота, со своими рыжими волосами, развевающимися по ветру, и белозубой улыбкой в рыжей бороде. Подхвати меня из моей белой постели и унеси прочь. Она не сможет остановить нас. Мы рассмеемся ей в лицо, и наш смех будет лететь за нами, словно хвост красной кометы, когда мы понесемся галопом по ровным полям, под полной луной, пока Рим не превратится просто в туманную стену вдали. И мы будем лежать под оливковым деревом и любить друг друга всю ночь, пока я не попрошу тебя остановиться. А потом я рассмеюсь и скажу, что я вовсе не это имела в виду; а ты рассмеешься тоже и придавишь на меня всем своим весом и заставишь забыть и его, и ее, и Рим, и вообще все на свете. Я — твой город, ожидающий штурма. Мои ворота открыты для тебя. Приди и возьми меня”.
Только он, разумеется, не пришел. В то лето произошло именно то, что и должно было произойти. Кай Марций взял штурмом их крепость, Кориолы
Он подумал, что это оттого, что для меня было таким облегчением видеть его в безопасности, дома. Он даже пошутил по этому поводу. Если я плачу, видя, как он возвращается домой с триумфом, буду ли я смеяться, если он вернется домой в гробу? Это понравилось тем, кто мог его слышать. Под руководством Волумнии он обучался искусству казаться естественным и непринужденным на публике. Разумеется, я ничего не сказала, сделав вид, что мои чувства слишком глубоки, чтобы выставлять их напоказ. Такими они и были.
Что ж, мой благородный супруг, должна признаться, с той минуты, как ты сам заговорил об этом, я задумалась — что я буду делать, если тебя принесут домой мертвым? Смеяться я не стану. Нет, конечно же, нет. Уж точно не на людях, не на глазах у всего Рима. Нет, я не буду смеяться. Я даже буду немного опечалена — примерно так, как если бы умерла ручная птичка, или тетушка, которая как-то раз была ласкова со мной, или как если бы чужая собака попала под колеса чьей-то телеги. А потом я уйду в свою комнату и скажу себе: “Ну что ж, с этим покончено. Что же дальше?” И тогда я, возможно, рассмеюсь. Вероятно, тихо, без лишнего шума. Но, да, наверно, я буду смеяться. Что ж, ты сам спросил об этом.
И вот, когда война на какое-то время прекратилась, и пока не ослабело воздействие этого триумфального возвращения домой, политическая кампания началась. Старцы согласились, что лучшей возможности, чем эта, уже не будет. Патриции, простой народ, богачи — все готовы были поддержать нашего великого героя, которому было всего лишь сорок; с его многочисленными шрамами и первой сединой, полученными на службе городу; чье прошлое и личная жизнь были образцом всего, что мог бы потребовать Рим. Вот тут-то опять понадобилась я. Я думала, что когда они с Волумнией займутся политикой, они по крайней мере оставят меня в покое. Но мои надежды не оправдались.
— Мы должны как можно чаще бывать в гостях, Виргилия. Голоса женщин очень важны.
Удивленная этим доводом, я раз в кои-то веки заговорила:
— Но женщины же не имеют права голоса. Мы ведь не можем голосовать.
Она улыбнулась. Она всегда радовалась, когда я демонстрировала свою наивность.
— Нам это и не нужно. Право голоса мы имеем у себя дома.
Итак, начался бесконечный, неделя за неделей, круг визитов; по семь-восемь в день, по всему городу. Сидеть с женщинами, пить травяной чай или вино со специями, вести пустые разговоры ни о чем. А она не сводит с меня глаз, прислушивается к каждому слову, чтобы быть уверенной, что я не скажу ничего неуместного. Поэтому, само собой, я старалась говорить как можно меньше. Как правило, Марций-младший тоже должен был ходить с нами для полноты картины. Он был тогда в том возрасте, когда детям хочется побегать, и ему все это не нравилось. Но, хотя он и спорил порой со мной, он не смел возражать бабке. Единственным утешением для меня служило то, что едва Кориолан будет благополучно избран — а в этом, казалось, не было никаких сомнений — я смогу вернуться к прежней жизни, сидеть в своей комнате или гулять по тропинкам в саду, погрузившись в свои мысли и мечты. Потом она дала мне понять, что этого тоже не случится. Все, чем мы занимались теперь, было хорошей подготовкой к тем обязанностям, которые появятся у меня, когда я стану женой консула. Я больше уже никогда не буду принадлежать себе. Я принадлежу Риму. И выхода нет и не будет.
Был только один способ избежать этого. И я нашла его. Клянусь всеми богами, я этого не хотела. Если я и молила их спасти меня — а я молила, да, думаю, этот чужой голос у меня в голове молил их — я не хотела, чтобы все случилось именно так. Я не намеревалась убивать своего мужа. Я не намеревалась убивать Кориолана. Мое молчание убило его. Что еще я могла сделать, кроме как молчать? В конце концов, это было единственное, в чем я была великой мастерицей.
Полагаю, вам известна эта история. У нас в Риме есть такой обычай: перед тем как человека изберут консулом, он должен надеть лохмотья и шапку обычного работяги и отправиться на рыночную площадь просить плебс отдать ему свои голоса. На самом деле это всего лишь спектакль, перерыв в серьезной кампании, возможность для кандидата показать столь необходимые ему чувство юмора и близость к народу. Претендент на высокий пост покупает много выпивки, произносит забавную речь, написанную каким-нибудь другом, мастером в таких делах, где обязательно упоминается результат последних состязаний борцов. Толпа восторженно аплодирует, и все счастливы.
Теперь я знаю, каким образом ей удалось изобразить то, что случилось, так, чтобы выставить его в наилучшем виде, даже после всей этой катастрофы. Ее версия: Кориолан был слишком горд, слишком благороден, чтобы участвовать в таком унизительном фарсе. Поэтому он вышел из себя перед этим сбродом и вынужден был отправиться в изгнание. Нет, очень сожалею, Волумния, но все было не совсем так. Я происхожу из семьи военных, поэтому даже я знаю, что вы не можете командовать людьми, если не умеете пошутить с ними, посмотреть на мир их глазами. Если бы он захотел, он прекрасно справился бы с таким делом. Только, я думаю, он устал. В конце концов, это была долгая кампания, и она уже подходила к концу. Я знаю, что устала. В городе стояла удушающая жара, у меня разболелась голова, в этот день предстояло еще восемь визитов, а Марций-младший был очень капризным, возможно, его слегка лихорадило. Я услышала смех Волумнии из-за двери ее комнаты и его смех тоже. Очень необычные звуки. Потом он зашел в нашу комнату в своей рваной, покрытой пятнами тунике (позаимствованной у одного из рабов, но, естественно, хорошо выстиранной), со старой мятой шляпой в руке.
— Ну, Виргилия, как я выгляжу?
Он встал в дверях в театральной позе и, все еще смеясь, нахлобучил шляпу на голову. Знаю, мне тоже следовало рассмеяться, пошутить, сказать, что он выглядит прекрасно, или ужасно, или еще что-нибудь. Хоть что-нибудь. Вместо этого я отвернулась и промолчала.
— Ох, — сказал он.
Только это. Но я почувствовала, как вся его уверенность исчезает, словно воздух из гриба-дождевика, когда вы наступаете на него. Я спрашивала себя снова и снова, почему это было так важно для него в тот день? Почему, хотя никому не интересно было, что я думаю, несколько несказанных слов имели такие последствия? Возможно, все это время он любил меня гораздо сильнее, чем я думала? Но, если это так, почему он никак не показывал мне этого? Это она не позволила ему рассказать мне об этом, опасаясь, что нежность сделает его менее мужественным? Каковы бы ни были причины, ему следовало сказать мне.
Во всяком случае, в результате он заварил всю эту кашу, потерял самообладание, позабыл свои шутки, впал в ярость и вынужден был уйти в изгнание. И, конечно, был убит. Убит Туллом Авфидием. Или моим молчанием.
Он погиб среди варваров, поэтому у него не было могилы в Риме. Волумния решила посвятить остаток своей жизни тому, чтобы создать ему памятник. И остаток моей жизни тоже. Этот памятник будет сделан не из камня или металла, а из наших жизней. Из нашей благородной скорби на глазах всего города. Все, что мы делаем с этой минуты, должно напоминать Риму о его неблагодарности к своему самому достойному сыну, обо всех добродетелях, покинувших город в тот день, когда они изгнали его. Каждый день мы проходили вместе через рыночную площадь — она, я и юный Марций, — одетые в траурные одежды. Опустив глаза, мы шли в храм Марса. Мы проделывали это неделю за неделей, месяц за месяцем. В конце года я спросила ее, как долго это будет продолжаться. Она посмотрела на меня глазами твердыми и темными, как агат.
— Вечно, — сказала она.
В конце второго года пришло письмо от моего отца. Он спрашивал, не хочу ли я снова выйти замуж. Как уважаемая вдова, я была совершенно свободна и могла найти себе мужа, если захочу. Мой отец подумывал о дальнем родственнике, которого я помнила и который мне очень нравился. Когда я заговорила об этом с ней, мне показалось, что она готова ударить меня.
— Что я тебе говорила? Если ты когда-нибудь изменишь Каю Марцию, я убью тебя своими собственными руками.
— Но он же...
— Это не имеет значения.
Она выглядела так, словно сама уже наполовину превратилась в камень. Ее седые волосы были того же цвета, что и кварц; ее спина была прямой, как у Минервы на храмовом фризе. Ей, должно быть, пошел уже седьмой десяток, но возраст для нее не имел значения. Я знала, что она не позволит себе умереть еще десятки лет, потому что она слишком занята превращением нас в памятник ему. Я ничего не сказала.
Но я не готова была подобно ей превратиться в камень. Это было бы расточительством. Мои волосы все еще были темными и густыми. Когда я распускала их в своей комнате, они закручивались вокруг меня водоворотом, словно река вокруг ивы. Мои ногти были розовыми, словно ракушки, мои колени были мягкими и округлыми, как у самой Венеры на мозаике на полу ее храма. Но на будущий год мне исполнится тридцать. Еще немного — и будет слишком поздно. Прошлой ночью я услышала, как двое рабов шептались и хихикали под окном. Я узнала по голосу девушку, серую мышку, моложе меня, но совсем не привлекательную. Я слышала, как их шепот затих вдалеке, и всю ночь пролежала без сна, воображая, куда они ушли и чем там занялись. И плакала от зависти.
В тот день я все утро старалась держаться подальше от нее и занималась делами в кладовых. Даже живым статуям нужно есть и пить. Я проверила, сколько осталось зерна и оливкового масла. Масло у нас почти закончилось, и я послала управляющего с несколькими рабами купить еще. Я предупредила их, чтобы они были очень осторожны на крутых, не освещенных ступенях, ведущих вниз, в кладовые.
Был уже вечер, когда я решилась пойти к ней. Низкое солнце лило медно-желтый свет во внутренний двор, оставляя углы в полумраке. Но было еще недостаточно темно, чтобы зажечь лампы. Теперь, когда у нас редко бывали гости, мы стали бережливыми. Она сидела за прялкой в полутемной гостиной на низком стуле с прямой, как всегда, спиной. Единственным звуком было жужжание ее прялки. Я нашла другой стул, такой же низкий, чтобы наши глаза оказались на одном уровне, и аккуратно поставила его между ней и дверью. Я сказала:
— Я должна кое-что рассказать тебе.
В первый раз за все время, что я знала ее, ровное гудение прялки прервалось. Она еще не догадывалась, что произойдет, но почувствовала, что мой голос звучит иначе, чем всегда. В моих ушах он тоже звучал по-другому — тайный голос молчаливой женщины; сейчас заговоривший вслух, чтобы еще кто-то мог услышать его.
— Это насчет Кая Марция.
Мне нужно было тщательно рассчитать время и не выкладывать все сразу.
— Что насчет Кориолана?
Она настаивала на этом титуле, несмотря ни на что. Она снова перестала прясть. Я слышала снаружи приглушенный голос управляющего, дававшего указания рабам. Я была рада, что поблизости есть другие люди. Я сказала:
— Понимаешь, он ведь часто отсутствовал. Вот почему все так вышло.
— Вышло что?
Вероятно, такой голос будет у судьи за рекой Стикс, голос, который говорит вам, что пощады не будет, но вы все равно должны сознаться.
— Мой любовник.
И я выплеснула на нее все сразу, как птица, знающая, что сможет спеть свою песню только один раз. Я смотрела ей в глаза и рассказывала, как мой любовник пробирался жаркими летними ночами мимо стражи, и я впускала его в окно. Я рассказывала ей про другие ночи, когда была моя очередь пробираться мимо стражи, а он ждал меня за стенами, с лошадью, чтобы мы могли ускакать прочь и найти место под деревьями у реки, чтобы заняться любовью.
— Он был прекрасным любовником, — сказала я, — я не знала, что такое любовь, пока мы не нашли друг друга.
Все это время она, не шевелясь, смотрела на меня. Если бы не ее глаза, я подумала бы, что она и в самом деле, наконец, превратилась в камень, слушая меня. Но ее глаза были похожи на крысиные, две блестящие бусинки, в которых отражался последний свет, только черный, а не красный. Было уже почти совсем темно. Я встала, сделала два шага к двери.
— Как его имя?
Я посмотрела на нее через плечо.
— Как зовут твоего любовника?
— Тулл Авфидий, — сказала я.
Потом я метнулась к двери, распахнула ее и помчалась, спасая свою жизнь. Я никогда не слышала ничего похожего на визг, раздававшийся позади меня, пока я бежала по коридору и через двор. Какой-нибудь крылатый монстр мог бы так визжать, пикируя на свою жертву. Ничего человеческого в этих звуках не было. Визг звучал у меня за спиной все громче и громче, словно она догоняла меня. Я никогда не думала, что она может бегать так быстро, не говоря уж о том, чтобы еще и визжать при этом. Ни тогда, ни теперь я не знала, поверила ли она мне. Если бы она подумала хоть одно мгновение, то поняла бы, что у меня не было возможности носиться галопом по равнинам с любовником — ведь ее глаза и уши следили за мной каждую минуту в течение каждого дня. Но хватило и того, что это было сказано.
Я слышала, как позади меня падают и разбиваются какие-то предметы, как рабы и управляющий что-то кричат друг другу. Должно быть, они знали, что она убьет меня, если поймает. Возможно, кто-то из них пытался остановить ее, но я не знаю. Думаю, скорее всего, нет. Ее слово долгие годы было законом, и если она решила убить свою невестку, это было ее делом. Я рассчитывала на то, что с самого начала вырвусь вперед, и на то, что я намного моложе, но ненависть придала ей сил. И я, начиная паниковать, подумала, что мне может не хватить времени. Я потеряла сандалию и сбросила вторую; я слышала, что визг у меня за спиной раздается все ближе и ближе, пока она не оказалась всего в нескольких шагах от меня. Передо мной в дальнем конце двора была дверь в наши кладовые. Я ухватилась за щеколду, рывком открыла ее, вбежала внутрь и захлопнула за собой дверь. Когда дверь закрылась, стало совсем темно. Мое сердце бешено колотилось, но я заставила себя спускаться вниз по ступеням медленно и осторожно, по краю, держась одной рукой за стену. К тому времени, как я спустилась до самого низа, оказавшись среди мучных ларей и кувшинов с маслом, визг смолк. Следующий звук, который я услышала, был скрип открывающейся двери наверху лестницы. Она стояла там, надо мной, — более темная фигура на фоне темно-синего неба.
Я спокойно сказала ей:
— Даже если ты убьешь меня, оно того стоило.
Темная фигура пошла вниз по лестнице, ко мне. Поначалу она спускалась медленно, не торопясь, потому что знала — она загнала меня в угол. Затем внезапно ее очертания изменились, и она полетела на меня головой вперед, словно и вправду превратилась в мстительную фурию и спешила вонзить мне в горло свой клюв и когти. Так мне показалось. И я закричала, хотя знала, что все случилось в точности так, как я планировала: она поскользнулась на оливковом масле (которым я аккуратно полила середину ступеней) и стремглав полетела вниз. Она не вскрикнула. Она упала у моих ног и, если не считать хруста сломанной шеи, умерла совершенно бесшумно. Это было странно. Ведь молчание было моим, а не ее талантом.
Через некоторое время я поднимусь наверх. Нужно будет организовать похороны, заняться домашними делами. Я очень ясно дам понять, что не нужно наказывать рабов за разлитое на лестнице масло. В конце концов, несчастные случаи происходят даже в самых лучших домах. Мы с юным Каем, как подобает, положенное время будем соблюдать траур. И я напишу своему отцу, что, возможно, стоит подумать о том дальнем родственнике. Если, конечно, не появится кто-то поинтереснее. В конце концов, я богатая молодая вдова, свободная, как птица.
Что касается того голоса, что звучал в моей голове, — не думаю, что он мне когда-нибудь понадобится снова. Дальше — тишина